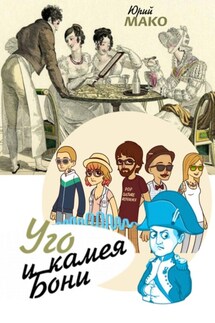Старые недобрые времена – 1 - страница 23
Но Тихон Никитичь не подвёл, и не успел ещё Ванька отстираться, как он уже вернулся, да не один, а дружком, ещё более немолодым, отставным, не сильно трезвым, но куда как более решительным.
– На-ка вот, накинь, – едва представившись, приказал дядька Лукич, дав Ваньке старую морскую робу, срока, наверное, пятого, а затем и штаны, такие же застиранные и залатанные, ветхие, но главное – сухие и чистые, – да пошли давай ко мне, малой! Я тут недалеко живу, хозяйка моя уж как-то обиходит тебя!
– Давай… – заторопил он Ваньку, – поспешай! Тебя, я чай, отогревать надо, зяблика!
Получасом позже, сидя скорчившись в старом корыте на заднем дворе, пока хозяйка, немолодая, и от того совершенно беззастенчивая, сухонькая и говорливая, поливала его из ковшика, помогая оттирать голову, он понял вдруг, что плачет. Нет, не рыдая, а так…
Быть может, переживая наконец тот ужас, через который он совсем недавно прошёл…
… а может быть, потому, что здесь, в этом временем, он впервые столкнулся с добрым отношением к себе.
Глава 3
Тварь я дрожащая?
Поутру, еле разодрав глаза, Ванька некоторое время, загружался воспоминаниями, лежа на узком, застеленном вытертым войлоком топчане. Бездумно глядя в низкий нависающий потолок, потрескавшийся, местами крепко облупившийся, с грозящимися осыпаться ошмётками высохшей глины и торчащей соломой, он зевал так широко и яростно, что ещё чуть, и кажется, треснет пополам, как переспелый арбуз.
Постелили ему вчера в крохотной, душной комнатушке с земляным полом, маленьким узким оконцем и щелями под самой крышей, куда нехотя, будто делая невесть какое одолжение, просачивается солнечный свет и почти не проходит воздух. На стене, такой же трещиноватой и будто небритой из-за торчащей из неё соломы, снуют мелкие насекомые, будто танцуя среди пылинок, мерцающих в лучах солнечного света.
Едва пошевелившись, он сразу вспомнил давнее, читанное невесть когда выражение «Зубные боли во всём теле», очень выразительно и точно описывающее его нынешнее состояние. Голова тяжёлая, как чугунное ядро, и так болит, будто начинена порохом и вот-вот готова взорваться. А суставы ревматично напоминают о себе при каждом движении.
– Проснулся, Ванечка? – заглянула в чуланчик хозяйка, каким-то неведомым образом узнавшая о его пробуждении, – Доброе утро!
– Доброе утро, Лизавета Федотовна, – отозвался попаданец, вставая с таким кряхтеньем и стонами, что куда там заржавевшему Железному Дровосеку! – вашими молитвами.
– Ну вставай, вставай… – мелко закивала женщина, перекрестив его, – сходи по нужде, да давай к столу подходи!
Старики уже поели, встав, наверное, задолго до восхода солнца. Но дядька Лукич, блюдя вежество, посидел с ним, неспешно сёрбая какой-то травяной взвар из щербатой оловянной кружки, времён, кажется, как бы не Кагула и Чесмы.
– Ты ешь, ешь… – суетится хозяйка, успевая делать по дому кучу дел разом, и, по мнению попаданца, необыкновенно походящая на очеловеченную домовитую мышку, наряженную в линялый старенький платочек и залатанный сарафан, обутую в старенькие, многажды чинённые опорки, – жиденько-то, оно тебе на пользу!
Ванька, машинально отвечая, как и положено в таких случаях, неспешно ел, потея, очень жидкую похлёбку из морских гадов, в которой, помимо самих гадов и мелко нарезанных душистых трав, не было, кажется, и ничего, даже жиринки. К похлёбке дали морскую галету, чёрствости совершенно невообразимой, с трудом поддающейся размачиванию в похлёбке.