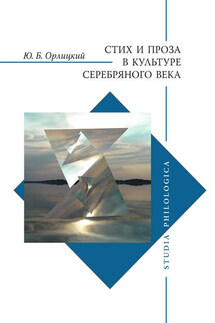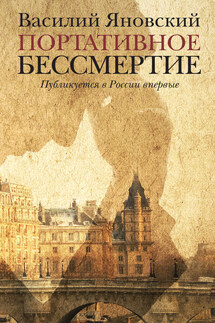Стих и проза в культуре Серебряного века - страница 5
Наконец, стоит обратить внимание на шуточную подпись Горького на автографе сказки 1917 г. «Самовар», также написанную (по крайней мере, формально) в форме свободного стиха.
Таким образом, можно считать, что наиболее радикальная форма прозаизации стихотворной речи – свободный стих, – получившая определенное распространение в поэзии начала ХХ в., не осталась не замеченной и Горьким и оставила в его творчестве пусть и не очень глубокий, но вполне отчетливый след.
Соответственно, возникшие в результате влияния стиха на прозу явления метрической, строфической и других видов так называемой «стихоподобной» прозы10 занимают в творчестве писателя еще более заметное место.
Прежде всего, это написанные регулярной метрической прозой знаменитые «Песни», а также значительная часть его прозаической поэмы «Человек», метрическая вставка в рассказе «Еще о черте», так называемое стихотворение в прозе Калерии в пьесе «Дачники», ряд организованных по метрическому принципу фрагментов больших прозаических форм.
Тут тоже необходимо учитывать историко-литературный контекст. С одной стороны, до Горького малые по объему (сопоставимые в этом смысле со стихами) произведения метрической прозы встречались нечасто; кроме давних опытов М. Муравьева, Ф. Глинки, М. Лермонтова11, тут необходимо, пожалуй, назвать эксперимент К. Ушинского, предложившего читателю в своей «Христоматии» переведенные в метрическую прозу стихотворения русских поэтов-классиков. Но последнее – свидетельства торжества сознания именно прозаической эпохи, не понимавшей, зачем вообще нужны стихи, когда все можно сказать (или, по крайней мере, записать) в прозе. С другой стороны, традицию частичной, но вполне ощутимой метризации больших прозаических вещей примерно в те же годы развивает, опираясь на опыт А. Вельтмана и Н. Лескова, Андрей Белый.
«Песни» Горького, имели, как известно, огромный резонанс в обществе и породили определенную традицию в литературе, прежде всего, революционно-пропагандистской. Известно также, что в 1920-е гг. к метрической прозе активно обращалась в своей интимной лирике Мария Шкапская, произведения которой получили высокую оценку Горького. При этом ее метрические миниатюры в прозе печатались в одной книге со стихами (то есть как стихи среди стихов), в то время как Горький включал их в заведомо прозаический контекст, своего рода раму из метрически нейтральной, традиционной прозы, создающей необходимый контраст (хотя обе «Песни» затем прекрасно функционировали в литературе без него и даже печатались в советское время, столь же глухое к ритму, как эпоха Ушинского, в стихотворной транскрипции).
Так, метрическая центральная часть «Песни о Соколе» (1895), написанная двустопным белым ямбом со сплошными женским окончаниями, которую, как мы помним, «унылым речитативом, стараясь сохранить своеобразную мелодию песни», «рассказывает» автору старик Рагим, идет вслед за почти неметричным (метрические отрезки выделены курсивом) начальным фрагментом текста (начало рассказа: «Море – огромное, лениво вздыхающее у берега, – уснуло и неподвижно в дали, облитой голубым сиянием луны»; «Пламя нашего костра освещает его со стороны», «А море ластится к берегу, и волны звучат так ласково,