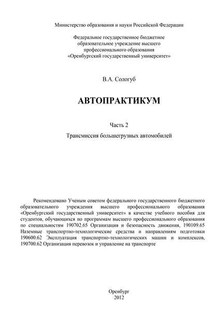Стихи про меня - страница 29
А главное – “Гомер”. Острое завистливое ощущение причастности к культуре, свободы обращения с нею, когда море, море вообще – есть то, откуда всё вышло: жизнь, с которой вместе с морем Мандельштам прощался в феврале 37-го в Воронеже: “Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева, ⁄ И парус медленный, что облаком продолжен, – /Яс вами разлучен, вас оценив едва… ”
Когда море составлено из тех же букв, что Гомер.
Без непринужденного пребывания в античности немыслимы ни Мандельштам (“Серебряная труба Катулла… мучит и тревожит сильнее, чем любая футуристическая загадка”), ни Бродский (“В определенном смысле, сами того не сознавая, мы пишем не по-русски или там по-английски, как мы думаем, но по-гречески и на латыни, ибо… новое время не дало человеку ни единой качественно новой концепции… С точки зрения сознания, чем человек современнее, тем он древнее”).
В мандельштамовском собрании сочинений античность со всех сторон обступает “Бессонницу”: в том же году написанное про Рим и Авентин, Мельпомену и Федру, Капитолий и Форум, Цезаря и Цицерона.
Может, тогда на берегу Рижского залива и возникло, еще самому неясное, желание прочесть список кораблей до конца, не проходящее вот уже столько лет. Среди любимейших мировых авторов – Аристофан, Ксенофонт, Платон, Катулл, Овидий, Петроний. Может, тогда подспудно началась особая любовь к “Илиаде” – понятно, что “Одиссея” богаче и тоньше, но как же захватывает гомеровский киносценарий о Троянской войне, с подробной росписью эпизодов и кадров, с этим корабельным перечнем, долгим, как титры голливудских блокбастеров.
Многим и разным окуталось стихотворение Мандельштама с годами. Тогда в Пумпури на берегу ахейского моря я сразу и безусловно воспринял то, с чем согласен и теперь: “всё движется любовью”. Нам всем было по двадцать четыре года: Мандельштаму, когда он писал; девушке, когда она читала; мне, когда слушал.
Возвращение в город
Борис Пастернак 1890-1960
Марбург