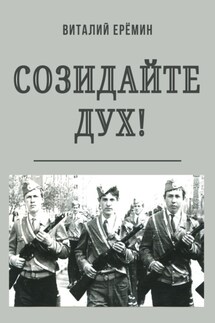Странности любви - страница 15
– А что такое, по-твоему, сладострастник? – придрался Иванов.
– Не что, а кто. Кто любит заниматься любовью.
– Тогда я тоже сладострастник, – напомнил Иванов. – Тебе ль не знать.
Маша пропустила выпад мимо ушей. Вцепившись в Канарейкина, она уже не могла отпустить его, не ощипав половину перьев.
– Канарейкин воздвиг себе репутацию любящего отца. Хотя на самом деле любит только себя. Дикое тщеславие и любовь к детям – вещи несовместные.
Иванов налил Маше еще, и она прибавила пыла:
– Они все отъявленные бабники и сладострастники. От Троцкого до Березовского. От Бабеля до Немцова. При этом жуткие выпендрежники. Еврей, который не считает себя самым умным и успешным, неполноценный еврей. Но среди русских баб у них хорошая репутация. Как бы верные мужья, как бы хорошие отцы. А на самом деле – просто хорошие имитаторы. Если бы были настоящими, еврейки не выходили бы за русских, как моя мама.
Иванов спросил, кем же сама Маша себя считает.
– Конечно, русской, кем же еще? Если бы чувствовала себя еврейкой, давно бы уехала в Израилевку, – сказала Маша. И неожиданно добавила. – Но мне не нравится, как ты смотришь на свою невестку.
– Как я на нее смотрю?
– Как отъявленный антисемит.
– А чего она печет такие тощие пироги с капустой? Капустой жмется!
Иванов сделал вид, что пошутил, а на самом деле считал экономию капусты важным показателем. Ему не нравилось также, что сын стал редко приезжать к нему. Придумал оправдание, мол, у невестки сбой в вестибулярном аппарате, совсем не переносит езды, а приезжать ему одному – значит, оставлять ее в одиночестве.
– Еврейки отбивают русских мужей от родителей, – сказал Маше Иванов. – Ты – редкое исключение.
– Тут я с тобой, пожалуй, соглашусь, – отвечала Маша. – Я тоже это замечала. Но скажи спасибо, что невестка еще не увезла твоего сына в Израилевку.
Иванов потянулся за ещём, в смысле, к бутылке.
– Бедолага, – пожалела его Маша. – Сколько несчастий сразу. Но ты перетерпи все кучкой – потом легче будет. (Иванов направил на Машу вопрошающий взгляд). Не знаю даже, как ты это воспримешь… Ну, короче, сын у тебя тоже еврей, Вова. Точнее, первая жена твоя не сказала тебе, что она еврейка. А сын только недавно узнал от нее. Просил тебя подготовить.
Иванов нервно захохотал. Потом умолк и снова захохотал. Открыл свой фотоальбом и стал рассматривать фотографии родителей. Потом старые снимки с изображениями деда и бабки. Маша переживала за него.
– Все у тебя нормально. Смотри, какие чисто русские лица.
– Тогда откуда у меня горбинка на носу?
– Далась тебе горбинка. У Карла Маркса нос картошкой, а он кто?
Ночью Иванов долго мял подушку. Какого черта он вызверился на Петрова? Ну, в самом деле, чего обидного в вопросе, еврей ли он? «Но я обиделся, – признавался себе Иванов, а значит… Что из этого следует? Значит, быть евреем, по мне, не есть хорошо. Стало быть, я скрытый антисемит. Но при этом меня не очень покоробило, когда Маша призналась мне, что она еврейка. Но совсем другое дело – с сыном. Почему? Да все просто. Маша никуда не денется, а сын отдалится еще больше. Потому как знает точно, что я отчасти все же антисемит. Сколько раз я при нем проявлял себя в этом качестве… Такое не забывается».
Иванов встал и выпил снотворное. В соседней комнате зажегся свет. Маша принялась читать книжку. «А ведь у нас из-за этой ерунды все может рухнуть», – подумал Иванов.