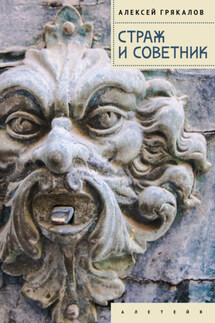Страж и Советник. Роман-свидетель - страница 22
И Розанов с неутешающим усмирением: погибнет или не погибнет человечество – это ничего не изменяет в вопросе о существовании некоей странной целесообразности. Ни человеческое счастье, ни человеческие бедствия не придадут бытию целесообразности, если в нем нет ее, не отнимут ее, если она в нем есть. Целесообразность в мире факт внешний для человека, не подчиненный его воле: признавать это или отрицать есть дело исключительно познания. Да не согласится человечество обмануть себя из малодушия – признать то, чего нет, чтобы сохранить за собою жизнь! А если в тяжелую минуту предсмертного томления оно сделает это, не вынесет долго обмана: тайное сознание, что нет того, ради чего живет оно, заставит людей по одному, не высказываясь, покидать жизнь.
Вот откуда рекруты-террористы, что сами себя призовут.
Никто не догадывается о том, как тесно многие отвлеченные вопросы связаны не только с важными интересами человеческой жизни, но с самим существованием этой жизни. Никому не представляется, что то или другое разрешение вопроса о целесообразности в мире может или исполнить человеческую жизнь высочайшей радости, или довести человека до отчаяния и принудить его оставить жизнь.
Новая форма террора? – не самолеты, не машины, не специально обученные существа. Неисчислимые террористы – это существа, что отчаялись жить.
А среди них персонажи, что не видят ни в чем смысла.
Неискоренимые голой жизни несчастные отчаюги.
– Пора уходить? – Спросил у грустной девы-библиотекарши. – Ей никто не позвонил. – Нет ничего страшней безответности?
– Мы должны до последнего посетителя!
– Женщина помнит трех мужчин: первый, последний и один?
И последний читатель я.
А Розанов приближался почти к камланию: отчаяние уже глухо чувствуется в живущих поколениях, хотя его источник ясно не осознается. Вот почему легкомысленное решение вопроса о целесообразности есть не только глупость, но и великое преступление. Те, которые играют этим вопросом, не чувствуют важного значения – отрицая целесообразность, продолжают жить, кружиться среди бессмысленного для них же самих мира и трудиться ни для чего по их же желанию.
То, что чувствуют и что делают теперь единичные люди, – говорю об отчаянии и смерти – то со временем могут почувствовать поколения и народы.
Довлеет дневи злоба его?
Будто сама жизнь бытийствует и трепещет. После Сократа и Достоевского была третья, может быть, сильнейшая из таких попыток в истории? Освобождение от самой истории, что давит Лениным или Сталиным, когда история стала отдельною от Евангелия.
Московский ветер рванулся в окна, стали проветривать зал.
Слишком много соображаем, нужно жить непосредственнее. Даже в войну не бросали новорожденных, не нужно столько теорий, – читаю о помощи брошенным деткам.
Теория, тут Розанов будто сам против себя, – это всегда мука и путаница.
Из теории не вытащишь ногу – не там светит солнце. Разве нет истины прямо в глазе нашем, в слухе нашем, в сегодняшнем нерве нашем, а не в тех остатках исторических нервов, которые мы носим в себе, как мочалку, всю почерневшую, всю злобную, полную отмщений не за наши времена и не за наших людей. Поменьше истории, и жить будет радостнее.
Розанов пошел домой по Казачьему переулку, меня сейчас повезут по московской. А если потом захочу выйти из гостиницы, должен дежурной сказать о целесообразном по-розановски маршруте.