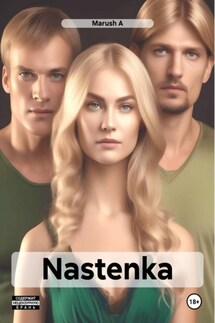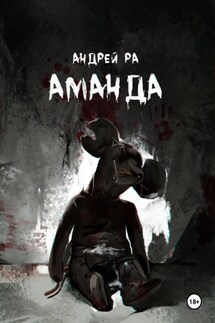Ступи за ограду - страница 10
по-английски?
– Надо полагать, по той же причине, по какой ты не говоришь
по-фламандски. Ничего, теперь мы начинаем понимать друг друга… – Клер невесело усмехнулась. – Мы ведь, по существу, говорим одно и то же. Весь ужас в том, что у человека в наши дни может быть слишком много самых разнообразных причин, чтобы не так уж цепляться за жизнь. У всякого свое. Я, например, просто-напросто по горло сыта войной и не желаю видеть еще одну. Мне было семь лет, когда к нам пришли немцы и я осталась без детства. Понимаешь? Детства у меня не было. Была оккупация, был постоянный страх, постоянный голод, разговоры о предателях, о заложниках, о черном рынке. А сколько было подлости! Даже мы, дети, видели ее вот так – невооруженным глазом… А сколько подлости было потом – после освобождения! Когда самые жирные из коллабо покупали себе награды за участие в маки… Я в университете знала одну девчонку – с факультета этнографии, сейчас она, кстати, где-то в твоих краях, – так ее родитель всю войну торговал с бошами. Причем открыто, его весь Антверпен знал, этого Стеенховена. А сейчас он – герой Сопротивления!
– Возможно, он торговал – как это говорится – для камуфляжа?
– Какой там камуфляж, иди ты. Греб деньги лопатой, я тебе говорю! Мне-то это все известно, можно сказать, из первых рук – мы с Астрид дружили.
Беатрис подняла брови:
– Ты могла дружить с дочерью такого отвратительного человека?
– А она-то при чем? Ей было десять лет, когда кончилась война. А потом она из-за этого и расплевалась со своей семейкой – когда все сообразила. Бросила даже университет и умотала к вам.
– В Аргентину?
– Не знаю точно, последнее письмо было из Монтевидео.
– О, это совсем рядом…
– Так что, видишь… Такие, как ее папаша, благополучно выкрутились, а мелкую рыбешку в сорок пятом году расстреливали пачками – без суда и следствия…
– Совсем без суда?
– Ну как «совсем»… Формально суды были – полевые суды, по законам военного времени. Полчаса разбирательства – и к стенке. Иногда даже по анонимному доносу.
– Кларита, не нужно вспоминать о таких вещах.
– О них и не забудешь, Додо. Знаешь, детские впечатления остаются на всю жизнь. Ты счастливая – у тебя было хорошее детство, обыкновенное. С куклами, со сластями, с каруселями…
– Да, детство у меня было хорошее, – тихо отозвалась Беатрис.
Они опять замолчали. Начался дождь. По подоконнику снаружи мягко барабанили капли, в комнате запахло теплым летним ненастьем.
– Что у вас там сейчас делается? – спросила Клер.
– Где – у нас?
– В Аргентине. Я читала недавно, там была революция, какие-то беспорядки.
– Да, – кивнула Беатрис. – Было восстание. Как это называется… попытка переворота. Месяц назад. Некоторые мои знакомые там принимали участие…
– Ты бы, наверное, тоже принимала участие, если бы была сейчас там?
Беатрис улыбнулась и покачала головой:
– О нет. Зачем?
– Ты же говорила, у вас там какой-то диктатор. Он что, сукин сын?
– Да, и большой. Но мне до него нет никакого дела. До политики вообще, я хочу сказать.
Клер посмотрела на нее задумчиво, словно собираясь что-то возразить, но ничего не сказала. Беатрис, подперев кулачком подбородок, прищуренными глазами смотрела в окно, на дождь в неяркие пятна синевы между тучами. Что-то неуловимо надменное в линии профиля и длинные, не по моде, волосы в сочетании с мешковатой непромокаемой курткой придавали облику аргентинки некоторую театральность – так мог выглядеть паж на сцене.