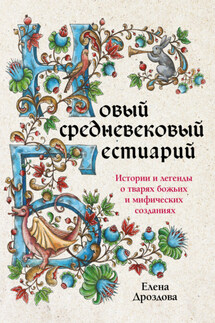Свеченье слов - страница 7
Пространством свободного стиха, его носителем выступают самодельные сборники, которые Прокофьев делает в небольшом количестве и рассылает друзьям: кроме Кузьминского, художнику Вильяму Брую, слависту Жоржу Нива, писателю и журналисту Д. А. Тарасенкову… Кроме книги «Свеченье слов», давшей название настоящему собранию и выпущенной Прокофьевым ограниченным тиражом за свои средства, а также уже упоминавшегося двуязычного сборника «Отпечаток отсутствия» и публикаций в периодике и антологиях, поэт – вполне обладавший средствами, чтобы издавать книги за свой счет, – довольствуется теми возможностями, которые дает ему самиздат, и оставляет свою поэзию существовать в рамках приватного творчества и узкого круга друзей.
С одной стороны, возможно, прав критик, считавший, что «на периферии Прокофьеву было намного комфортнее», а «отсутствие амбиций объясняется, наверное, тем, что некоторым художникам очень хорошо в изобильных культурой странах» [Дьяконов 2010: 15]. Но думается, что нет ничего более далекого от «комфорта» и «культурного изобилия», чем трагический и прекрасный мир художника Олега Прокофьева, который теперь наконец открывается читателю в своем поэтическом воплощении.
Илья Кукуй
Чем больше вчитываешься в стихи Олега Сергеевича Прокофьева, тем больше хочется к ним возвращаться снова и снова. Открытия в них встречаются на каждом шагу. Поэт в каждой строке открывает мир для самого себя, желая поделиться, прежде всего с самим собой, в словах, тщательно отобранных и бережно прилаженных друг к другу таким образом, что нечто похожее на прозу неожиданно обращается в поэзию, точно так же, как некий набор звуков и ритмов в руках композитора вдруг обращается в музыку. Тот из нас, кому посчастливится прочесть и вникнуть в его строки, невольно поставит себя на его место и незаметно окажется внутри его поэтического мира. Можно взять наугад любое его стихотворение, и мир, который, казалось, мы так хорошо знаем, мы увидим совсем другими глазами – его глазами, например:
(№ 215)
В этом мире, похожем на сновидение, лес становится гостиной в квартире, которая умещается в сердце поэта; низко парят стрижи, своими крыльями задевая не что-нибудь, а его самолюбие; над ним смеется козел, шумно опорожняясь, а брезгливо выгибающаяся гусеница одета в шубку школьницы, в которую он был когда-то влюблен. И этот насыщенный диковинными образами, почти что сказочный мир вызывает у поэта одновременно чувство пустоты и чуда.