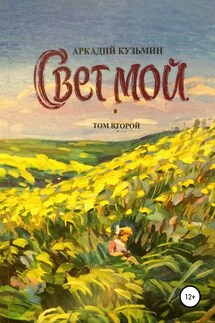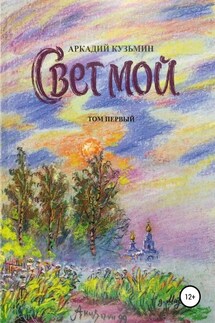Свет мой. Том 1 - страница 11
«…29 апреля пришли ко мне с просьбой написать на венок ленту: «Дорогому Родиону, сыну и брату, от родных». Оказывается, Калачев был все это время дома и 27 апреля умер. А мы его адреса и не знали… Хотел я сходить на похороны, на кладбище, да что-то запутался в делах, потом сам загрустил и устроил ему тризну: выпил крепко. Бесконечно жаль его».
И далее он писал:
«Первая любовь – что может быть красивее? Но как это ложно по чувствам? Ложно ли? Да, пожалуй, и нет! Божьи дни не ложны, но жизнь, быт отрезвляют быстро – оставайся «пьяным». Береги главное – чувство любви к человеку, к природе».
Впрочем, у Антона в эти дни испортились отношения и с Оленькой: в их переписке начались выяснения, поредели их встречи.
Неужели он действительно, задавал себе Кашин вопрос, пошел дорогой не означенной, без вешек? Отчего же сильней всего его мучило осознание какой-то постоянной большой вины в чем-то ответственном и перед кем-то беззащитным? Он-то вроде бы сделал все, что мог. В исключительной, непредвиденной ситуации. И вроде бы правильно с моральной точки зрения. И будто бы кто-то другой, почти известный Кашину, уже чувствовал когда-то это самое по более важной причине, не один он, Антон, – чувство ему так подсказывало, он знал, видел, понимал то, если покопаться в памяти…
Опустились позднь и темь. Перед глазами – на той стороне свинцового канала – глухим и высоким забором тянулось вдоль старое красное здание Новой Голландии с беструбной крышей; во всю его высоту – тусклые запыленные стрельчатые проемы – окна. Надоедливо-однообразно качались там топольки.
И вдруг перед глазами – почти наваждение какое-то.
Неуспокоенный Антон, раздумавшись, сидел один на бровке заросшего поля в предсумеречно-размытом пространстве – ни кола, ни двора, ни позади, ни впереди; вокруг растеньица были смутно обозначены, в коричнево-землистой гамме, как глубокой осенью. И всю привычную картину, даже и себя, сидящего в раздумье, он видел разом еще как бы и со спины. Странным, слегка узнаваемым и как бы ожидаемым моментом было то, что это зыбко рисовалось ему в пределах знакомой ему (до боли) родины детства: вот край взборожденной полянки с горушками, в сотне-другой шагов от места с отцовской, он помнил, избой, уничтоженной оголтело налетевшим с Запада стальным вороньем; место ее былого присутствия предполагалось где-то за спиной, он это точно чувствовал, но не волен был повернуться и посмотреть – незачем, потому как он, все зная, что нужно, углубленно вглядывался лишь в одном – восточном направлении (не именно теперь), несмотря на опустившуюся на все смурность и могущую быть безрассветность. И было у него какое-то чувство вины перед матерью: он не мог повернуться, не мог еще разобраться с истинным положением вещей. Оно оказалось намного серьезней на самом деле. Ответственней.
И вот сбоку к нему подошла простая знакомая с виду женщина в обычной ватной куртке-фуфайке. Он не посмотрел на нее. Та показалась ему неродной тетей Полей, с которой он дружил когда-то. Она коснулась рукой плеча его, ласково проговорила:
– Не тужи, сынок, а служи всем. Своим предназначением.
– А зачем, скажи, пожалуйста? – непроизвольно вырвалось у него.
– Спасение – в наших способностях. И – в твоих.
– Ну, откуда ты знаешь, что способен я и на что? – с досадой противился он, будучи в скверном настроении.
– Я-то знаю это хорошо, сынок, ты не волнуйся… – загадочно произнесла гостья небывалая, добрая. – Ум ни дать никому, ни взять ни у кого.