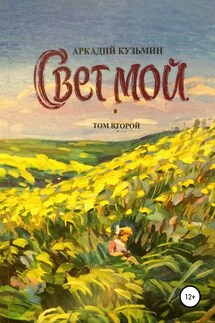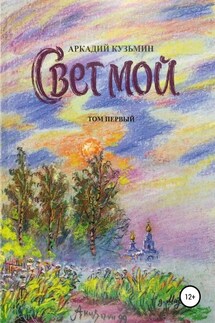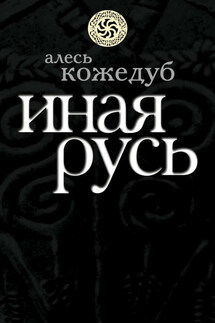Свет мой. Том 1 - страница 2
– Что ж, по-твоему, нам разумней и практичней осторожничать? – пытался понять товарища Антон.
– Да нет. Я не об этом… Необдуманно можешь поставить крест на своих занятиях графикой. И так хромает все. Ты-то хотя бы умеешь держать кисть в руке, не то, что все мы – братия грешная, – на ощупь тыркаемся в бумагу, в холст… До изнурения.
Между прочим, Ефим, сколь заметно было, и разговаривал с подружками с некой благоразумной снисходительностью к ним, невзрослым еще особам, хотя при этом обыкновенно смущался и краснел по-мужски; возможно – потому, что он, став выпускником училища рисования, уже проучительствовал год в дневной школе; он, наверное, подсознательно учитывал их сравнительную (по отношению с самим собой) младшесть, что искушенный уже во всем мэтр, знающий и видящий, несомненно, нечто большее и существенное, чем то, что они, беспечные замарашки, могли успеть узнать и увидеть. Его излишне заносило в сомнительных претензиях.
– Брось-ка заблуждаться, Фима, – говорил ему Антон резонно. – Зря не наговаривай пустяшного. Не накликай невзгод.
– Мы-то – ты пойми! – в двадцать три еще ничего великого не создали. И покамест неизвестны никому… Печально…
– Да, и Альп не перешли. Какой ужас! И будем в неизвестности, остынь! Мы не танцоры, чай, а чернорабочие по сути своей. До всего добираемся вслепую. Что жалеть себя позря заранее? По что пойдешь, мил-дружок, то и обретешь. Что бестолку рассуждать о любви, о нравственно-личных наставлениях, если она движима одним сердцем? – Антон преисполнен был самыми возвышенными чувствами к Оленьке – перед ее юностью, подкупающей открытостью и доверительностью. Для него как бы открылся новый полюс светопритяжения: она – превосходна. Привет! Живем! И поэтому он говорил несколько запальчиво: – На что же мы способны?
– Что ж, тебе флаг в руки! Дерзай! Пиши письма, сочиняй стихи, – сдался Ефим. Он был все-таки рационалистом и никогда не тратил своих усилий даром, т.е. не тратил их тогда, когда наперед предвидел, что из этого ничего путевого не выйдет. Вдобавок он пропел с нарочитой веселостью:
О не целуй меня
Не обнимай меня
В свои объятья
О, не целуй меня
Друг добрый, милый
Не разжигай во мне
Любви напрасной.
– Ну, умоляю я тебя!.. Умерь, герой, язвительность.
При виде тускло-размытой перспективы Мойки с Исаакиевским собором вдали Кашин на миг представил себе, как хмурым августовским днем их, призывников, – сотни тверских ребят (высадив из теплушек на Московском вокзале), вели колонной сюда, в казарму; колонна петляла вдоль Фонтанки, потом – канала Грибоедова и потом, что-то обойдя, – Мойки; сбоку улиц тянулись ровной линией потемнелые и побитые в блокаду здания, похожие по характеру на берлинские, увиденные им в победном 1945-м году. И он поразился тут очевидной достоверности описания Достоевским образа тогдашнего Петербурга, города, живущего всегда своей непроницаемо – независимой от его обитателей жизнью.
Знаменитый в прошлом Балтийский Экипаж, где служили друзья, – они и художнически выполняли (их обязали) всю наглядную рекламу для тысяч проходивших здесь флотских новобранцев, распределяемых затем по кораблям и базам, располагался в крепком старом краснокирпичном здании. Оно и поныне стоит за Поцелуевым мостом (через Мойку), в полуостановке от Мариинского театра. Фактически – в самом центре города – примечательное удобство для молодого человека, жадного для получения знаний: близко от всех блестящих музеев, театров, библиотек, Академии художеств.