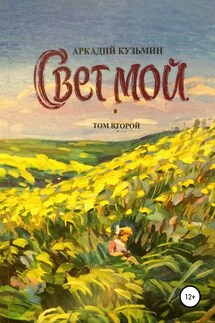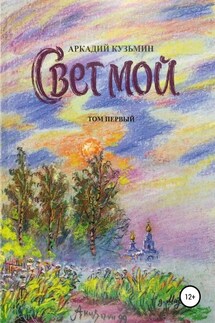Свет мой. Том 3 - страница 6
– Я тебе, конечно же, сочувствую… Но за что же обижать других?
– Они, по-моему, все такие, стоят друг дружку; невеста, попомни, посмеется над тобой, и ты с ума сойдешь…
– Нет, никогда того не будет.
– Извини, да она, она, должно быть, как и эта твоя Леночка, друг, может ответить при случае взаимностью не тебе, а какому-нибудь еще суженому… – И Сергей, бледнея, пошел себе.
– Да это ж подлость, что ты сказал! А я-то впрямь дурак, что еще разглагольствовал с тобой обо всем. Нет, ты… посмотри на него, пророка…
Но тот, мрачно насвистывая что-то, уже уходил размашистым шагом прочь, в чащу. И тут во сне вскрикнул, промычал обычно спокойный солдат-шофер Терещенко, спавший сбоку Антона в кузове, как и сержант. Павел, не договорив, с удивлением обернулся на вырвавшийся вскрик, было осудительно глянул на Антоново лицо, глазевшее в брезентовом проеме, но только приветливо махнул рукой и удалился тоже. Растворился в чаще леса.
Деревья тревожно затрепетали листвой в вышине.
Озабоченно-хмуроватый Пехлер, проснувшись, зевнул, встал, выбрался наружу и деловито засновал туда-сюда, в новеньком ватнике; он ворча подгонял поднятого Терещенко, велел заводить мотор, испытующе-неодобрительно поглядывал на Антона. Но Антон ни о чем не спрашивал у него: что спрашивать напрасно? Все равно не скажет ему, почему сердит. Да и решал он сейчас вопрос с самим собой – очень важный. А именно спрашивал у себя: «Смогу ли я прикрывать собой других? Не испугаюсь ли, главное, когда нужно будет действовать? Сколько в моей жизни небольшой уже было довольно неприятных минут – и ведь не могу не признаться себе, что мне было очень-очень боязно порой, а порой азартно-весело на краю, считай, обрыва, только и всего. Но главное же чувство – желание во мне было то, что не хотелось мне со стороны смотреть на все, а скорее самому участвовать в самом деле совершавшегося – самого значительного, что я видел, и увидеть все то до конца победного, когда все останутся жить, – все ждали того, ощущали в нем первую потребность, торжество свершения наивысшей справедливости».
– Ну, теперь порядок полный, можно жить, – удовлетворенно проговорил Пехлер, вытирая ладонью пот со лба из-под фуражки, после того как они погрузили в кузов мешки с буханками пахучего, только что испеченного хлеба, который получили по договоренности из воинской пекарни. И, показалось Антону, разом согнал с лица хмурость, больше не косился на него и миролюбивей был с шофером. Как же, ведь надо было ему накормить людей, – он за это отвечал.
Да, хоть мать и говаривала Антону обыкновенно так, она все-таки, чувствовал он, полагалась теперь целиком на его правильный выбор. А это, в свою очередь, заставляло его собрать свою волю, собраться с решимостью, духом. Недаром он оставался за старшего мужчину в семье. Без него ничего бы дальнейшего и быть и не могло. Как бы то ни было, закончился первый период его испытания в новом для себя качестве – он его выдержал-таки, можно сказать; ему должно быть впредь легче, проще. Он значительно повзрослел за короткий период – может быть, чувством дома, родины и чувствовал каким-то особым чутьем, что у него уже нет возврата к прежней жизни в семье. К лучшему ли или худшему то было, неизвестно. А междупутья не было. Более чем месячный срок отделял его от первого разговора о том, ехать ли или не ехать ему с прифронтовой военной частью; за это время многое улеглось, определилось как-то само собой. Пусть и не безболезненно для него. Он сам шел навстречу своей судьбе – и будет за нее в ответе; и больше никто – даже тетя Поля, его друг, и взрослая сестра – не могли быть ему советчицами и успокоителями.