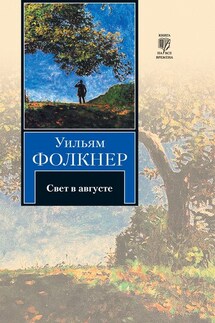Свет в августе. Деревушка. Осквернитель праха (сборник) - страница 25
Так что вывеска, которую он сколотил и написал, значит для него еще меньше, чем для города; он уже не воспринимает ее как вывеску, как весть. Он и не вспоминает о ней, пока в сумерки не займет свое место у окна в кабинете. А тогда это – просто привычный продолговатый предмет невысоко над уличной стороной лужайки; ничего не значащий; может быть – такое же порождение трагической неизбывной земли, как низкие раскидистые клены и кустарник, выросшие без его помощи или противодействия. Он уже и не смотрит на нее – так же, как не замечает, в сущности, деревьев, из-за которых наблюдает за улицей, дожидаясь ночи, мгновения, когда она наступит. В доме, в кабинете за его спиной, – тьма, и он ждет секунды, когда последний свет погасает в небе, и опускается ночь, и только слабым светом упорно дышит напоенная днем былинка и лист, задерживая на земле тихий свет, хотя ночь уже наступила. Теперь скоро думает он, скоро. И даже про себя не говорит: «Еще осталось что-то от гордости и чести, от жизни».
Семь лет назад, когда Байрон Банч приехал в Джефферсон и впервые увидел маленькую вывеску Гейл Хайтауэр, Д. Б. Уроки рисования. Рождественские открытки. Проявление фотографий, он подумал: «Д. Б. Что такое Д. Б.?» – и спросил об этом, и ему сказали: Дрянной Безбожник. Гейл Хайтауэр, Дрянной Безбожник, по крайней мере – для Джефферсона, – сказали ему. И как Хайтауэр приехал в Джефферсон прямо из семинарии, отказавшись от других приходов; как он пустил в ход все связи, чтобы его направили в Джефферсон. И как он прибыл с молодой женой и вышел из вагона уже в возбужденном состоянии, объясняя, рассказывая старикам и старухам – столпам церкви, что он выбрал Джефферсон с самого начала, когда еще только решил стать священником; рассказывая с каким-то ликованием о том, как писал письма, как надоедал людям, как пускал в ход все связи, чтобы его послали сюда. Местным слышалось в этом ликование барышника после выгодной сделки. То же, наверное, слышалось и старейшинам. Потому что они внимали ему холодно, изумленно, с недоверием – казалось, город как место жительства был нужен ему, а не церковь, не составляющие церковь люди, перед которыми ему предстояло служить. Словно ему безразличны были люди, живые люди, и хотят они его тут или нет. А к тому же он был еще молод, и старшие пытались охладить его радость и возбуждение разговором о серьезных церковных делах, об обязанностях их церкви и его собственных. Байрону рассказывали, что и спустя полгода молодой священник все еще был возбужден и все толковал о Гражданской войне, и убитом деде-кавалеристе, и о горевших в Джефферсоне складах генерала Гранта[11] – покуда не получалась полная каша. Байрону рассказывали, что так же он говорил и с кафедры, так же на кафедре заходился, превращая религию в непонятный сон. Не кошмар, но что-то развертывающееся быстрее, чем слова в Писании, – смерч какой-то, пренебрегающий земной опорой. И старикам, старухам это тоже не нравилось.
Будто даже на кафедре он не мог отделить религию от скачущей конницы и покойного деда, застреленного на скаку. И в личной жизни, у себя дома, тоже, наверное, не мог отделить. Наверное, даже не пытался, думал Байрон, размышляя о том, что мужчине свойственно вытворять такое с женщиной, которая ему принадлежит, что поэтому-то женщинам и приходится быть сильными, и нельзя их винить за то, что они творят с мужчинами, из-за них и ради них – ибо, видит Бог, до чего это мудреное дело – быть женой. Ему рассказывали, что жена священника была маленькая, тихая с виду девушка и городу сначала показалась бессловесной. Но в городе говорили, что, будь Хайтауэр самостоятельным человеком – человеком, каким следует быть священнику, а не таким, который родился на тридцать лет позже того единственного дня, которым он словно бы и жил всю жизнь, – дня, когда его деда застрелили на скаку, – с ней бы тоже ничего не случилось. Но он таким не был, и соседи часто слышали, как она плачет днем или поздно вечером в приходском доме, и соседи понимали, что он не знает, как помочь беде, потому что не знает, в чем беда. И как, бывало, она даже не являлась в церковь, где служил ее собственный муж – даже в воскресенье, – и люди глядели на него и недоумевали – замечает ли он хотя бы, что ее тут нет, помнит ли хотя бы, что у него вообще есть жена, когда стоит на кафедре, размахивая руками, и догма, которую он должен проповедать, вся перемешана со скачущей конницей, доблестью и поражением, – точно так же, как на улице, когда он начинал толковать им про скачущую кавалерию, она мешалась с отпущением грехов и чинами боевых серафимов, – и, разумеется, старики и старухи решили в конце концов, что эти речи, произносимые в доме Божьем, в Божий день, граничат с самым настоящим святотатством.