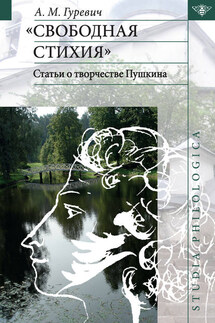«Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина - страница 15
В борьбе с такого рода «темными понятиями», неточными определениями и рождается полемическое утверждение: разделять поэзию на классическую и романтическую следует не по содержательному, а по формальному принципу: «Если вместо формы стихотворения будем брать за основание только дух, в котором оно писано, то никогда не выпутаемся из определений», – читаем в статье «О поэзии классической и романтической» (1825). Поэтому к классическому роду «должны отнестись те стихотворения, коих формы известны были грекам и римлянам, или коих образцы они нам оставили…». Напротив, к поэзии романтической должны быть отнесены те «роды стихотворения», которые не были известны древним, и те, в коих прежние формы изменились или заменены другими» [1, VII. С. 24].
Казалось бы, взгляд Пушкина на романтизм прост, ясен и не нуждается в каких-либо комментариях. Однако простота эта лишь видимая.
Понятые буквально, слова поэта слишком уж противоречат всему смыслу его основных программных выступлений, где на первый план неизменно выдвигаются духовно-содержательные свойства художественного произведения. Ограничимся одним только примером. Рецензируя произведения Сент-Бёва, Пушкин упрекает его за то, что в своих «Мыслях» он «слишком много придает важности нововведениям так называемой романтической школы французских писателей, которые сами полагают слишком большую важность в форме стиха, в цезуре, в рифме, в употреблении некоторых старинных слов, некоторых старинных оборотов и т. п. Все это хорошо; но слишком напоминает гремушки и пеленки младенчества» [1, VII. С. 167].
Налицо как будто бы явное противоречие: различия между классицизмом и романтизмом нужно искать не в «духе», а в форме поэзии, а в то же время формальным нововведениям не следует придавать «слишком много важности». В чем же дело? Как объяснить столь очевидное несоответствие? Для этого необходимо прежде всего восстановить ход мысли поэта, контекст его рассуждений о классицизме и романтизме.
Начнем с того, что само понятие «романтизм» Пушкин употребляет в разных значениях. Этим словом он обозначает одновременно (так было принято в немецкой романтической эстетике, во всей европейской художественной критике той поры) и современное ему литературное направление, и ту давнюю литературную традицию, на которую это направление опиралось.
Иными словами, романтизм был для поэта понятием вполне конкретным, исторически и хронологически локальным, и понятием более общим, более широким – как мы бы теперь сказали, типологическим.
В рецензии на поэму Ф. Глинки «Карелия» (1830) эта терминологическая двуплановость выявляется с замечательной ясностью. Талант, «может быть, самый оригинальный», Ф. Глинка «не исповедует ни древнего, ни французского классицизма, он не следует ни готическому, ни новейшему романтизму…» [1, VII. С. 84]. Значит, точно так же, как «лжеклассицизм» XVII столетия недопустимо смешивать с «классическим» искусством древнего мира, так и романтизм в литературе начала XIX в. («новейший», по терминологии Пушкина) следует отличать от «готического» романтизма минувших эпох.
«Готический» романтизм – это детище новой европейской цивилизации, возникшей на обломках античности. «Смиренное начало романтической поэзии» уходит в глубину веков – в эпоху нашествия мавров и крестовых походов: «Мавры внушили ей (европейской поэзии. – А. Г.