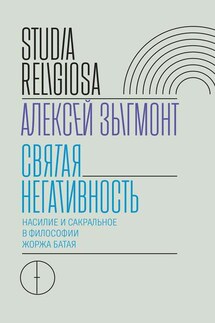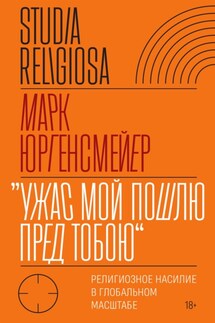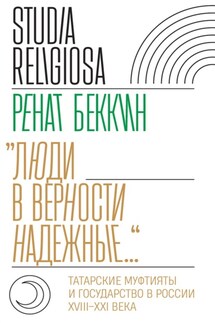Святая негативность. Насилие и сакральное в философии Жоржа Батая - страница 6
Исходный выбор «привилегированной» интерпретации, кроме того, определяет и фокус исследования, заставляя выбирать определенные материалы, связывать одни понятия с другими и встраивать их в тот или иной контекст. Если в качестве таковой, как это делают Зенкин и Гальцова, выбрать ярость, то внимание фокусируется на аффективном и стихийно-субстанциальном аспекте понятия; насилие же предполагает ассоциацию со вполне конкретными актами вроде убийств, пролития крови, причинения боли и нарушений границ человеческого тела. К такому решению нас подталкивают как сами тексты Батая, так и специфика интерпретации Гегеля у Кожева: по словам Декомба, «…его интерпретация… далекая от акцентирования разумных и умиротворяющих моментов гегелевской мысли, предпочитает моменты чрезмерные, грубые и особенно кровавые»[40]. В пользу избранной мной трактовки можно добавить и еще два соображения. Прежде всего, она представляется более экономичной: поскольку одним из ключевых батаевских концептов, описывающих связь между насилием и сакральным, является жертвоприношение, то рассматривать его как форму насилия в обыденном его смысле более логично, чем говорить о ярости. И еще одно: принесение жертвы есть социальная практика, позволяющая общине войти в контакт с миром сакрального; если насилие служит для этого средством, его характер проецируется и на сам этот мир, становясь самим его содержанием. Речь, таким образом, идет не об индивидуальном, а о коллективном явлении, в отношении которого понятие ярость позволяет объяснить меньше, чем насилие.
Во-вторых, исходя из поставленной мною задачи построения генеалогии батаевской концепции насилия и сакрального, мы будем вынуждены обратиться к тому периоду, когда ее еще не было, и к тем понятиям, которые предшествовали этим двум и в большей или меньшей степени покрывали область их смысла. В случае насилия это концепты агрессии, жестокости и изменения, а в случае сакрального – ирреальность, низкая материя и гетерогенное. В целом же эта концепция по сути является инструментальной по отношению к интуиции десубъективации. Первая из двух групп понятий при этом описывает переход от налично-данного субъектного состояния к инаковому, а вторая – само инаковое, которое может представляться как некий другой мир, состояние сознания или же как некая абстрактная энергия. Именно в этом переходе, согласно Батаю, и заключается смысл и ценность религии; насилие и сакральное – лишь наиболее поздняя и четко обозначенная пара понятий, выражающая это его положение.
Композиционное решение работы обусловлено в первую очередь этой невозможностью синхронического рассмотрения батаевской философии вследствие того, что на протяжении всего его творческого пути она находилась в непрерывном изменении и становлении: примерно одни и те же интуиции он в разное время выражает при помощи разных концептов, годами разрабатывает какое-нибудь одно понятие, чтобы затем его бросить, совмещает жанры и переходит с одного на другой, а потом возвращается к прежнему и, самое главное, – непрерывно меняет содержание концептов, так что даже между ближайшими случаями использования одного и того же понятия зачастую обнаруживается более или менее серьезный зазор. Исходя из этого, я телеологически наметил себе условную «точку омега» анализа – концепцию насилия и сакрального, как она представлена в послевоенных сочинениях философа, чтобы попытаться последовательно описать все стадии развития той интуиции, которая его в итоге к ней привела. Поэтому для описания последовательного преломления этого наиболее общего плана в различных жанровых решениях, понятиях и концепциях тематическое изложение совмещается с хронологическим: каждая глава исследования выстраивается вокруг одной темы, связанной с этой главной. В первой главе это образ солнца и связанные с ним мифология и гносеология, во второй – концепты низкой материи и гетерогенности, а также множество переходных понятий, в третьей – сообщество и его практические выражения, в четвертой – собственно насилие и сакральное, в пятой – война. При этом в хронологическом плане материал, как при написании картины, накладывается слоями, которые идут один за другим, но частично перекрывают друг друга или забегают чуть дальше положенного: первая глава охватывает ранний период становления батаевской мысли, 1927–1938 годы, вторая начинается чуть позже и заполняет 1929–1934 годы, третья посвящена второй половине 1930-х, четвертая – периоду от конца 1940-х до 1960-х, а пятая «пробегает» весь творческий путь мыслителя от начала и до конца, выискивая в нем тему войны, серьезно занимавшую его на протяжении всей жизни.