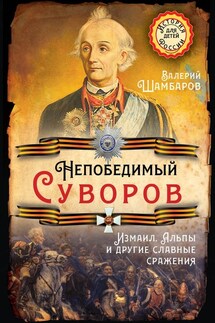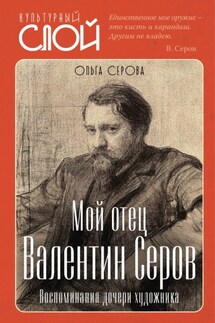Святая Русь против варварской Европы - страница 87
И все же, несмотря на разброд, политическая линия клонилась к сближению с Россией. Без этого было уже невозможно. Военное разорение и уход в войско крестьян создали угрозу голода. Выручила Москва, разрешив по дешевке покупать продовольствие, а то и поставляя бесплатно. Путивльский воевода Плещеев доносил царю, что местным жителям продуктов уже самим не хватает, поскольку из Севска, Комарицкой волости, Рыльска «весь хлеб пошол в Литовскую сторону». О том же сообщали из Белгорода. И Хмельницкий выражал Неронову горячую благодарность за то, что «государева милость к нему и ко всему Запорожскому Войску большая, и в хлебе недород… велел их в такое злое время прокормить и… многие души от смерти его царского величества жалованием учинились свободны и с голоду не померли».
Продолжались поставки оружия, пороха. И мощная дипломатическая поддержка. Весной 1650 г. в Варшаву пожаловали послы братья Пушкины. С ходу объявившие, что поляки нарушили «вечное докончанье», то бишь мирный договор 1634 г. Нарушили тем, что пишут царский титул с пропусками и ошибками. «Великий государь изволит гневаться на вас, поляков, за нарушение крестного целования. При вечных и докончанных грамотах мирных постановлено было, чтобы титул царского величества писался с большим страхом и без малейшего пропуска, а вы этого не соблюдаете». Поляки пробовали возражать, что нарушения допущены не в государственных документах, а в переписке частных лиц, и… попались на удочку. Послы развели руками – вот и казните этих лиц. И назвали Вишневецкого, Потоцкого, Калиновского.
Но это были еще цветочки. Дальше послы предъявили те самые книги, которые купил в Варшаве Кунаков, и заявили: «Его царское величество требует, чтобы все бесчестные книги были собраны и сожжены в присутствии панов, чтобы не только слагатели их, но и содержатели типографий, где они были напечатаны, наборщики и печатники, а также владельцы маетностей, где находились типографии, были казнены смертию». Уж конечно же, в Посольском приказе сидели люди далеко не наивные и знали польские законы о «свободах» печати (подчеркнем – «свободах» односторонних, с жесткой цензурой, поскольку антикатолическая и антипольская литература и ее авторы сурово преследовались). Но и в сенате сидели люди не наивные. Придирки они восприняли именно так, как рассчитывала Москва: русские готовы к войне и ищут ее.
Панов это привело в шок. Юлили так и эдак, объясняя, что за действия частных лиц правительство не отвечает, что казнить за это по польским законам не положено. Уговаривали, что разбирательство «бесчестных книг и преследование их сочинителей не только не произведет уменьшение, но прибавит оскорбления его царскому величеству». Послы упорно стояли на своем. А потом вдруг выдали новый фортель. Согласились – хорошо, можно и миром поладить. Если вернете Смоленск и прочие города и уплатите 500 тыс. злотых. А не хотите – значит разрыв «вечного докончанья». Вдобавок в Варшаву прибыло украинское посольство Богдановича-Зарудного, и Пушкины напоказ завязали с ним интенсивные контакты. Поляки вспомнили о «классовой солидарности», убеждали, что «лучше ведаться с панами, чем с мужиками». Уламывали не помогать мятежникам, «чтобы глядя на нас, самим избежать подобной опасности». Разрыва все-таки не произошло, потому что такой цели посольство не имело. Демарш являлся лишь серьезным предупреждением. Но заставил поляков оттянуть часть сил на русскую границу и сорвал удар на Украину в 1650 г.