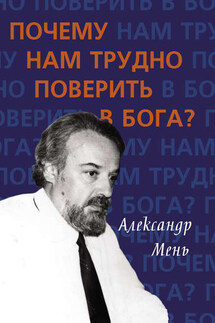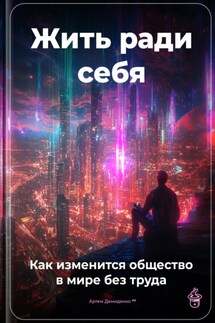Сын Человеческий. Истоки религии - страница 7
Пророки отчетливо сознавали себя орудиями, глашатаями и посланниками Всевышнего. Но в то же время они были не похожи на языческих прорицателей вроде пифий, которые вещали, находясь в состоянии бессознательного транса. В опыте библейских провидцев просветленный человеческий дух предстоял Сущему, открывающему Себя как Личность. Бог говорил с миром и ждал от него ответа. Таким образом, в пророках осуществлялось единение твари с Творцом, осуществлялся тот Завет, который был основой веры Израиля.
Пророки не только переживали встречу с Богом в глубине своего существа, но видели Его руку в жизни народов. Это было откровением, уникальным среди других религий.
«Вечный закон, который греки усматривали в стройном развитии и движении материи, – пишет английский мыслитель Кристофер Даусон, – для иудеев осуществлялся в превратностях человеческой истории. В то время как философы Индии и Греции размышляли об иллюзорности или вечности космических процессов, пророки Израиля утверждали нравственную цель истории и объясняли преходящие события своего времени в их отношении к божественной воле»[17].
Наблюдая неизменные ритмы природы: восходы и закаты, смену времен года и движение планет – большинство древних философов пришло к мысли о циклическом характере бытия. Все, полагали они, несется по кругу, все один раз случившееся повторится опять, и ничто не может быть в корне изменено. Рождаясь, умирая и возникая вновь, Вселенная и человек обречены на вечный круговорот. В противовес этому взгляду Библия учит о творении, которое устремлено ввысь, к совершенству. И хотя одновременно с добром возрастают и злые силы, в конечном счете они будут побеждены и миру откроется свободный путь к Царству Божию. Иными словами, пророки стали первыми, кому открылись направление и смысл истории.
Благодаря пророкам учение Моисея приобрело черты мировой религии[18]. По словам Паскаля, единственным выражением библейской веры «должна быть любовь к Богу, и Бог осуждает все остальное»[19]. Эта любовь требовала не столько церковных церемоний, сколько человечности, добра и правды. Поэтому в проповеди пророков такое большое место занимала идея социальной справедливости.
Как бы ни различались учители Израиля по своему характеру, темпераменту и общественному положению, их всех объединяла бескомпромиссность в отношении к отступникам, тиранам и лицемерам, которые надеялись «задобрить» Творца дарами и жертвами.
Вот пламенный Илия (ок. 850 г.), защитник гонимых и обездоленных, который без колебания бросает упрек в лицо самому царю.
Вот пастух Амос (ок. 770 г.), человек из народа, не желающий даже называть себя пророком; но он не может молчать, когда Господь повелел ему идти по городам и возвещать День Суда. Пусть не надеются израильтяне на свою избранность. Ее будут достойны лишь те, кто следует закону правды Божией.
Вот левит Осия (ок. 750 г.), оплакивающий духовное вырождение Северного царства. Он провозглашает, что любовь между людьми дороже Богу всех пышных ритуалов. «Милосердия хочу, а не жертвы», – говорит Господь через пророка[21].
Вот Исайя, иерусалимлянин знатного рода, влиятельный советник царя (ок. 730 г.). Его не может обмануть показной блеск двора, не радуют толпы во дворе Дома Господня. Никакие воскурения и молитвы не в состоянии заменить чистоты сердца и справедливых поступков.