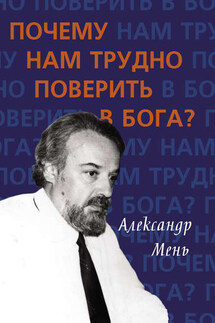Сын Человеческий - страница 41
Впоследствии, когда настал час испытания, первые женщины-христианки не покинули Господа, как прочие ученики. Они были на Голгофе в момент Его смерти, проводили Учителя до места погребения, и им первым была открыта пасхальная тайна…
Евангелие разрушило преграды, издавна разделявшие людей. Тем, кто соблюдал обряды Закона и кто не знал их, иудеям и чужеземцам, мужчинам и женщинам – каждому оно открывало дорогу в Царство Христово, где становилась второстепенной принадлежность к нации, сословию, полу, возрасту. Созерцая это чудо, апостол Павел восклицал: «Здесь нет эллина и иудея, нет обрезания и необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всех – Христос!»[160].
Уверенность в том, что существует иная жизнь, которая продолжается и после распада тела, была свойственна людям с глубокой древности. Такие мыслители, как Платон и Посидоний, впервые дали этому взгляду философское обоснование. Они утверждали, что наш земной путь есть лишь прелюдия вечности. Платон даже называл умение готовиться к смерти главной добродетелью мудреца[161].
Ветхозаветная религия в этом смысле представляла собой исключение. Очень долго она не находила ответа на вопрос о посмертной участи человека. В результате иудеи вынуждены были заимствовать понятие о загробном мире у других народов. Халдеям и гомеровским грекам он рисовался в виде подземной области, где тени умерших влачат полусонное существование. По этому образцу в Ветхом Завете было создано представление о Шеоле, Преисподней. Настоящее же «продолжение жизни» видели главным образом в потомках[162].
До тех пор, пока личность еще не отделяла себя от целого, от племени, человек мог мириться с идеей родового бессмертия. Но с углублением индивидуального сознания она стала вызывать протест. Вопль Иова – потрясающее свидетельство о религиозном кризисе, через который пришлось пройти Израилю. Праведники страдают, а злые торжествуют. Где же искать правду Божию? Только в потустороннем? Но этого соблазна Ветхий Завет избежал. Отказаться от веры в справедливость и благость Сущего было тоже немыслимо. Значит, благая воля Творца должна быть неисповедимым образом явлена здесь, на земле…
Таково было состояние умов в Израиле, когда около IV века до н. э. он в первый раз услышал благовестие о вечной жизни. Но не «бессмертие души» открылось ему, а грядущее возрождение, воскресение целокупного человека, когда и дух, и плоть, и все творение Божие смогут стать причастными вечности[163].
Иудейские богословы освоились со столь новым для них представлением не сразу. Автор Экклесиаста и Иисус, сын Сирахов, так и не смогли принять его. Только во II веке до н. э. оно превратилось в догмат иудаизма, составную часть его церковного предания. Впрочем, саддукеи решительно отказались переосмыслить взгляд на посмертие и сохранили прежнее понятие о Шеоле.
Иисус Христос полностью подтвердил веру в воскресение из мертвых. Однако, постоянно указывая на реальность «будущего века» и на победу Бога над тлением, Он не проповедовал спиритуализма, для которого земная жизнь – призрак.
Евангелие учит не только о потустороннем, а и о том, как нам должно жить сегодня.
Бессмертие, воскресение, Царство Божие неотделимы от того, что совершается в этом мире. Если человек станет пренебрегать своим земным служением, это будет изменой его призванию. С другой стороны, тех, кто все силы отдает только материальному, ждет неминуемая катастрофа.