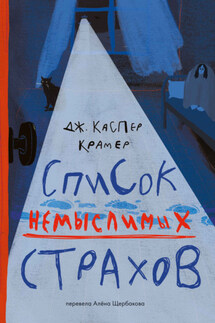Танцы, горы и каштановый мёд - страница 17
Кровь, престиж и наездники
В прошлой главе я упоминал, что не уважить гостя соответствующими его уровню подарками считалось для черкесского уорка страшным позором, который мог поставить крест не только на репутации, но и на социальном статусе хозяина, как в случае проявления трусости в бою. Это означало социальную смерть, что в традиционном обществе было равносильно смерти физической. В противоположность ей смерть в бою являлась верхом престижа, поскольку считалось позором дожить до седых лет. В поход черкесы брали с собой специальное полотно, в которое заворачивали умерших перед захоронением. Попасть в плен считалось страшным позором. Русские военные отмечали, что черкесы часто дрались с остервенением даже там, где в этом не было никакого смысла. Этикет требовал от них ценою жизни вытащить с поля боя погибшего соотечественника и передать его родственникам либо захоронить. Целые отряды погибали, пытались отбить умерших, но если атака не удавалась и мёртвые оставались в руках врага, то их тела старались выкупить старшие. В менее гуманные ранние годы Кавказской войны могли и отрезать голову, лишь бы было что захоронить. Потому черкесы носили на лысой голове тонкую косичку на затылке – так удобнее было её унести, привязать к седлу. Также отрезали голову убитого врага – считалось, что она приносила удачу, захороненная во дворе дома. Среди причерноморских черкесов такой обычай был распространён до самого конца Кавказской войны.
Если черкес в бою терял оружие, то это явная смерть, поскольку пути домой ему с таким позором не было. Оружие имело сакральный статус, его не разрешалось трогать без разрешения хозяина. Вынимать оружие без цели и только ради угрозы считалось позором. Обнажил клинок – заверши дело. Что касается вообще наездничества, оно было делом дорогостоящим. Черкесские породы лошадей на Кавказе ценились, а полноценный военный костюм уорка – панцирь – мастера могли выделывать до двух лет, и цена его порой равнялась целым конским стадам. Он представлял собой кольчугу, в которой могло быть до 25 000 колец. Панцирь закрывал тело и помещался в ладонях при снятии. Секрет его изготовления считается утерянным, современные реконструкции всего лишь его скромная копия. Ко всему прочему анатомия черкесской лошади и задачи переходов по пересечённой местности выработали особый вид черкесского седла «уанэ». Оно было высоким, с выемкой для хребта местной породы лошади, и набитым мягким пухом, который собирали с козьих стад или, по информации мастера-шорника Айдамира Патокова из Майкопа, набирали на лежбищах зубров в горных верховьях. Благодаря этому седлу всадник казался игрушечным, как бы сидящим на башенке на спине коня. Такое седло всадник использовал как подушку ночью. К крупу привязывали специальные кожаные мешки, в которых хранили вещи. Если требовалось пересечь реку, их надували и крепко затыкали отверстия с двух сторон так, что получались поддерживающие всадника на плаву бурдюки.
К снаряжению требовалось иметь черкеску с газырями, пороховницей и натруской. Газыри размещались на груди с обеих сторон, высотой до 10 сантиметров, всего от 16 до 24 штук. «Хьэзыр» (газырь) переводится с черкесского языка как «готовый». Это фактически готовый патрон. Вниз загонялся войлочный пыж, далее засыпали отмеренное количество пороха и закрывали пулей, завёрнутой в промасленную тряпочку. Поэтому на боевой черкеске газыри закрыты не серебряным колпачком, как на парадной, а заткнуты тряпкой. В бою черкесы вынимали готовый снаряд и быстро заряжали им ружьё. Если же патроны заканчивались, в разгар боя делали новые, обрывая концы рукавов и полы черкески для обёртки пули. Рваная черкеска считалась признаком бывалого воина. В XIX веке, когда романтизированная в русской классической литературе Кавказская война стала модной в Российской империи, кавказские офицеры приходили на балы в Петербурге в рваной черкеске. Иногда и с перхотью (паршой) на плечах – тоже признаком бывалого воина. Черкесы брили голову налысо, оставляя лишь косичку на затылке, но бритьё насухо в полевых условиях вызывало раздражение кожи – отсюда и перхоть.