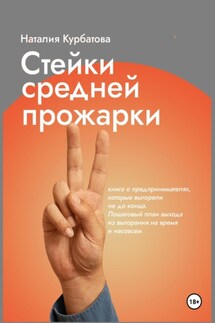Тайна философии Гегеля. Язык и стиль мышления в «Феноменологии духа». Краткий комментарий - страница 6
Вообще-то обращение с предметом как равным и неравным себе восходит к аристотелю, хотя основания для этого у него немного иные. Там это начинается с указания на особый вид отличия (называемого теперь, когда о нем вспоминают, чаще всего инаковостью). Любая вещь, поменявшая, скажем, цвет, или дерево в момент плодоношения и в момент листопада, море в штиль и в бурю остаются теми же самыми, хотя в нашем взаимоотношении с ними они становятся иными. В подобных случаях «об одном и том же, – поясняется в „Категориях“ Аристотеля, можно сказать, что оно по отношению к себе бывает [в разное время] разным…, например, тело, будучи белым, в настоящее время называется белым в большей степени, чем прежде, или будучи теплым – в большей и в меньшей степени теплым». (Аристотель, «Категории», глава пятая). Так можно ли признавать одними и теми же все многоразличные предметы вокруг нас, если в них всегда можно найти какие-нибудь изменения? Отвечать тут можно только противоречивой по форме фразой: они и равны самим себе, и в некотором смысле неравны.
Позднее у многочисленных комментаторов «Категорий» положение об изменении, которое оставляет предмет одним и тем же, получило более определенное и обобщенное выражение. Так, у древнеримского философа Боэция указанное Аристотелем изменение одного и того же относительно себя самого возникает не только из-за усиления или ослабления его свойств, но главным образом за счет включения в различные отношения с окружающими вещами. «Так, Сократ отличается от Платона; и от самого себя в бытность свою мальчиком он отличался, возмужав; и, отдыхая, отличается от себя, занятого делом; и всегда, в каком бы состоянии он ни находился, в нем можно наблюдать инаковость [по сравнению с чем-нибудь]» (Боэций. Комментарий к Порфирию, им самим переведенному, книга четвертая).
«Самость». У Гегеля изменение предмета через его вплетение в разные системы взаимоотношений выражается через понятии самости. Ее можно рассматривать как разновидность взаимоотношения с самим собой, но уже не как неравенство самому себе, возникавшее по причине несущественных изменений в предмете. Самость отображает изменение, когда меняется внешние взаимоотношения, изменяя тем самым функцию предмета, хотя сам он остается тем же самым. Скажем, автомобиль, пока он не продан, – товар, а когда начинает функционировать, транспортное средство; или автомобиль, обращенный к нашим потребностям, – масса удобств, обращенный же к трудностям его создания и использования, – источник социальных напряжений и даже опасностей. Легко согласиться, что аналогичным образом можно рассматривать как автомобиль в огромном множестве самых различных ракурсов, так и еще многое и многое другое, получая каждый раз все новые и новые оценки для исходного содержания. У Гегеля ход мысли оказывается именно таким при анализе каких бы то ни было явлений – от семьи и корпораций до религии, науки и государства; они должны соотноситься со множеством ракурсов, через которые все полнее и полнее раскрывается их содержание. Сначала такие явления простота и непосредственность, каковые сменяются (отрицаются, подвергаются негации) опосредствованным представлением, но оба эти обычно противопоставляемые друг другу изображения одного и того же явления должны снова синтезироваться, настойчиво подчеркивает Гегель, в одну картину, которая должна теперь вбирать в себя предмет со всеми его противоречиями. Инаковость следует отличать от привычного различия; тот же автомобиль, когда он уже функционирует, есть нечто иное относительно его же, еще только подлежащего продаже, но относительно автомобиля другой марки и тем более другого транспортного средства, скажем, локомотива он есть уже не нечто иное, а нечто другое.