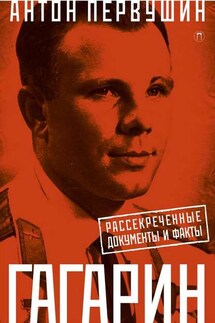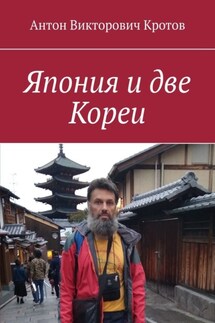Тайна системы «А». Ракетный щит Москвы - страница 16
В 1954 году мы получили заказ на новую военно-полевую многоканальную РРЛ [радиорелейную линию] и другой тематикой не занимались. Но однажды в нашем институте появился человек, изменивший планы. В 1955 году нас посетил представитель неизвестного нам главного конструктора Кисунько – Иван Данилович Яструб. Он рассказал, что <…> будет строиться система проверки возможности обнаружения баллистических ракет. На полигоне, на значительном удалении друг от друга намечено разместить большое количество средств будущей системы. Все средства могут действовать только сообща, а расстояния от радиолокационных станций до командного пункта и стрельбовых комплексов – несколько сот километров.
Выслушав, я понял: наша радиолиния Р-400 – это как раз то, что нужно Кисунько. Вскоре он пригласил меня на совещание. <…> Я рассказал о своих идеях. Понимая важность телекоммуникаций, Кисунько поддержал меня. Спустя некоторое время вышло постановление, где я был назначен главным конструктором системы передачи данных системы «А».
Как я уже сказал, наш институт занимался радиолокацией, а моя группа – связью. Пока мы разрабатывали Р-400, нас терпели. Но когда руководство поняло, сколь обширна новая тематика, нас начали теснить и в 1956 году наконец вытеснили. От НИИ-244 отпочковались две группы – Шорина по средствам помехозащиты и моя – по связи. Коллектив Шорина образовал НИИ-101 (ныне – НИИ автоматической аппаратуры имени академика В. С. Семенихина), мой коллектив – НИИ-129 (ныне – Московский научно-исследовательский радиотехнический институт). Сначала оба института поместили в одном здании в Уланском переулке. Но уже в октябре мы переехали в Вузовский переулок и заняли дом, где ранее находилось ЦСУ. <…>
Требования к СПД были очень жесткими. Например, из миллиарда импульсов мы могли потерять только один. Главный сигнал по системе «А» на подрыв боевой части мы должны были передать с точностью до трех тысячных долей секунды. Малейшее промедление неизбежно приводило к промаху и срыву всего дорогостоящего испытания. <…>
В процессе промышленного производства приходилось решать много новых для нас вопросов. Например, некоторое время никак не удавалось добиться герметичности рупорно-параболических антенн. Мы срывали график, и в один прекрасный момент меня вызвали на совещание к Д. Ф. Устинову. Твердо уверенный в том, что разнос будет основательный, я решил доложить как есть, и чистосердечно признался, что с герметичностью ничего не выходит. К удивлению, Устинов выслушал внимательно и, как мне показалось, доброжелательно, а затем обратился к министру авиапромышленности П. В. Дементьеву:
– Вы же делаете герметичные баки для горючего. Так помогите им.
С этими словами Дмитрий Федорович кивнул на меня. Сразу после совещания Дементьев прислал своих специалистов на наш завод в Лианозове. Они нам очень помогли, научили нас.
Система «А» очень красиво выглядела на бумаге. Но как она будет работать в виде «изделия»? Для проверки технических решений требовался полигон.
Балхашский полигон
Решение о создании 10-го испытательного полигона для нужд ПВО и ПРО страны (ГНИИП-10, в/ч 03080) было принято 1 апреля 1956 года, то есть задолго до завершения проектирования системы «А». О том, как оно вырабатывалось, рассказал сам Григорий Кисунько в своей книге «Секретная зона: Исповедь генерального конструктора»: