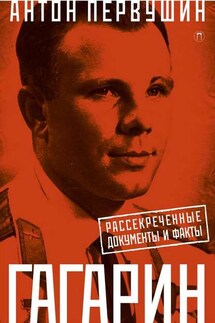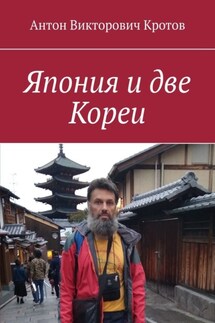Тайна системы «А». Ракетный щит Москвы - страница 4
Тем не менее 29 августа 1947 года в НИИ-20 был создан отдел № 24 по радиолокационному управлению, начальником которого назначили выпускника Ленинградской военной академии связи Серго Лаврентьевича Берию – сына всемогущего Лаврентия Павловича Берии. Вскоре министр вооружения Дмитрий Федорович Устинов прислал в институт дипломный проект Берии-младшего. Антону Брейтбарту было поручено отложить в сторону все дела и срочно написать отзыв на дипломную работу. Ознакомившись с отзывом, Устинов дал указание руководству института открыть опытно-конструкторскую работу по созданию проекта «Комета» – системы, предназначенной для борьбы с американскими авианосцами. Работы возглавил Павел Николаевич Куксенко – научный руководитель Берии-младшего. В связи с этим отдел № 24 получил права самостоятельной организации и был преобразован в Специальное бюро № 1 (СБ-1). При этом НИИ-20 и СБ-1 продолжили работу совместно, на одной территории.
Разумеется, появление в стенах института сына члена правительства, ответственного за создание ракетно-ядерных сил страны, сказалось на росте влиятельности организации, поэтому разработка противоракетных систем продолжилась, несмотря на пессимизм специалистов.
Четырнадцатого февраля 1948 года вышло постановление Совета министров, в соответствии с которым исследования по ПРО были поручены НИИ-88 в рамках темы, получившей обозначение «И-32». Вариантами противоракеты занялся конструкторский отдел, возглавляемый Евгением Васильевичем Синильщиковым. Проект системы управления противоракетой достался отделу Владимира Алексеевича Говядинова, который получил большой опыт в этой области, изучая немецкую зенитную ракету «Вассерфаль».
Непосредственно над системой управления в отделе Говядинова трудился Юрий Сергеевич Хлебцевич, позднее вошедший в историю как популяризатор космонавтики и автор идеи «Лунохода». Он предложил вариант противоракеты «И-32», которая должна была на начальном этапе наводиться на цель по командам с земли, а на конечном этапе – с помощью головки самонаведения.
Со своей стороны НИИ-20 приступил к исследованиям по двум направлениям: «Разработка методов и средств сверхдальнего радиолокационного обнаружения, автоматического слежения за целью и наведение ракеты на цель» и «Разработка методов борьбы с ракетами дальнего действия с помощью управляемых зенитных ракет И-32».
Материалы проекта «Плутон» были переданы в Спецкомитет № 3 при Совете министров СССР и рассмотрены на его заседании 5 апреля 1949 года. Спецкомитет постановил: «Считать, что решение вопроса обнаружения ракет и самолетов дальнего действия является в настоящее время, с нашей точки зрения, реальным. <…> В целях ускорения разработки РЛС дальнего обнаружения высотных объектов считать данное направление основным, одновременно проработать вопросы, связанные с уточнением средств противоракетной обороны».
Однако в конце 1949 года, несмотря на основательный задел, Иосиф Сталин принял решение сосредоточить основные научные и конструкторские силы на разработке системы противовоздушной обороны «Беркут». В 1950 году группы в НИИ-20 и НИИ-88 были расформированы. Противоракетный проект был отложен на будущее.
Почему это произошло? В первую очередь потому, что столь сложная задача не могла быть решена в течение года или двух, а военно-политическое руководство страны опасалось потерять темп при создании надежного «воздушного щита», способного защитить огромную территорию Советского Союза от ядерного удара. Еще одним немаловажным фактором было то, что основу стратегических сил США составляли всё же сверхдальние бомбардировщики «Б-29», а с ними можно было бороться, используя реактивную авиацию вкупе с простыми зенитными ракетами. Время для фантастической техники, которая составит основу ракетно-космической обороны Советского Союза, еще не наступило.