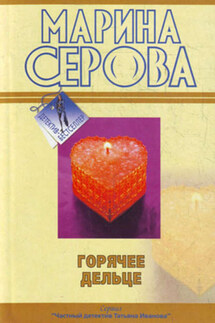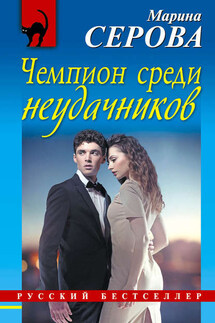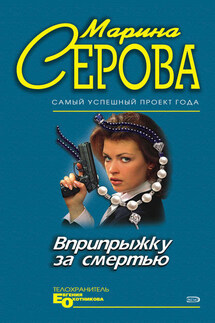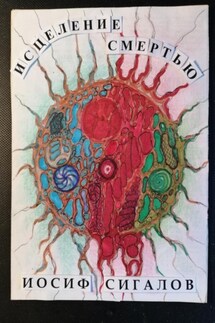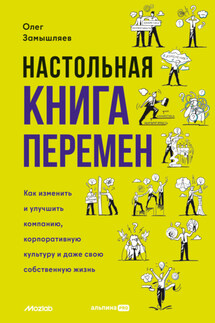Тайная комната антиквара - страница 17
– Ну... в общем, да... Но, впрочем, у него еще был магазин, туда тоже приходили люди. И покупали.
– Да, разумеется. Но я бы хотела поговорить сейчас о клиентах, которых находили для него вы. Что это были за люди, как бы вы могли их охарактеризовать?
Агент совсем скуксился, съежился на стуле и, кажется, даже немного уменьшился в объемах. О «людях» говорить он явно не хотел.
– Ну... видите ли... вообще-то это конфиденциальная информация. Наши клиенты не любят, когда про них много рассказывают...
– Семен Валентинович, я ведь не прошу вас называть мне адреса и фамилии. Я прошу дать общую характеристику тех, кто входил в число ваших клиентов. Например, это, наверное, были люди достаточно состоятельные, из небедных слоев общества, не правда ли?
– Ну... в общем, да... состоятельные...
Я поняла, что по этому пункту ничего от него не добьюсь. Может быть, с ростовщичеством мне повезет больше? Я помнила о предостережении Мельникова и о том, что Вера, скорее всего, не знала об этой стороне деятельности своего отца, и я не планировала пока ставить ее в известность. Но даже в ее присутствии я могла с помощью некоторых полунамеков попытаться выудить из неразговорчивого Гиля пару-тройку высказываний на эту тему.
– При продаже каких-либо антикварных вещей или картин каким образом производились расчеты?
– Чаще всего наличными. Иногда деньги переводились на счет в банке, но это бывало редко.
– А могли, например, в уплату за картину быть приняты драгоценности? Или другое произведение искусства?
На лице моего собеседника выразилось откровенное недоумение. Немного подумав, он сказал:
– Иногда мы обменивались между собой... то есть продавцы, если, например, у кого-то было то, что нужно нам, а у нас было то, что нужно ему. Определяли примерную стоимость, и если у кого-то предмет был дешевле, он доплачивал наличными. Ну, или... по договоренности. Но, насколько я помню, с клиентами таких обменов никогда не делалось. Они всегда рассчитывались деньгами.
– Хорошо. А клиент должен был обязательно рассчитаться сразу при получении нужной ему вещи или была возможность, так сказать, покупки в кредит? – все пыталась я навести Гиля на нужную мне мысль.
Но при этом вопросе он совсем уже вытаращил глаза и, похоже, окончательно принял меня за полоумную.
– Разумеется, сразу.
– И что, не было ни малейшей возможности немножко оттянуть оплату? – игриво улыбнулась я. – А может, у человека в тот момент денег не случилось?
– Если в тот момент не случилось, значит, пусть приходит, когда «случилось», – раздраженно заговорил Гиль. – Вы поймите, девушка, мы у своих клиентов паспортные данные не спрашиваем, сегодня он здесь, а завтра – неизвестно где. Какой тут может быть кредит?! Да и вообще... У нас все на самоокупаемости, нам никто ничего не дарит, мы сегодня продали вещь, а завтра нам что-то купить надо и, может быть, в два раза дороже. Как мы сможем дело вести, если всем кредиты будем раздавать? А самим на что жить?!
Семен Валентинович не на шутку разволновался. Видимо, я задела его за живое. Однако в смысле информации о ростовщичестве это, увы, ничего не дало.
Напоследок я попробовала прощупать еще одно направление.
– Насколько я поняла, – начала я, когда Гиль немного успокоился, – прежде чем выставить на продажу, например, картину или какую-то старинную вещь, вы сначала определяете ее подлинность?
– Разумеется. Кстати, по этим вопросам мы довольно часто обращаемся к господину Савельеву, с которым вы, кажется, знакомы.