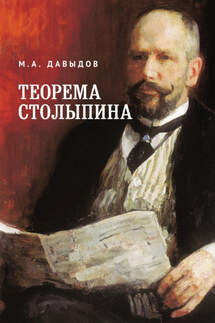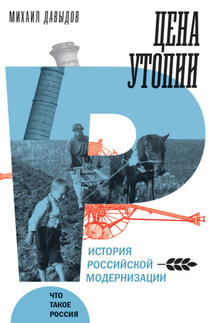Теорема Столыпина - страница 31
Какой, впрочем, спрос со студентов, если председатель Конституционного Суда России В. Д. Зорькин, написавший в числе прочего, две книги о Б. Н. Чичерине (!), публично заявил: «При всех издержках крепостничества именно оно было главной скрепой, удерживающей внутреннее единство нации».
Мысль Зорькина, думаю, войдет в анналы, но сама по себе она – безусловный симптом происшедшего за последние 25 лет сдвига в восприятии крепостного права. Думаю, не только мне хочется задать бестактный вопрос о том, с какой стороны «скрепы» Зорькин предпочел бы оказаться.
При этом сиюминутные мотивы такого оригинального заявления очевидны и понятны. Благостное отношение к крепостничеству не случайно совпало с ужесточением внутренней политики.
Есть и другие причины такого изменения в восприятии вполне ясных сюжетов, и анализировать их все я сейчас не буду. Замечу только, что некий флер пасторальной сентиментальности стал покрывать крепостничество где-то с середины 1990-х гг.
Тогда, с одной стороны, в качестве главного объяснения проблем нашей истории большую популярность внезапно обрел суровый климат, одним из якобы закономерных последствий которого стало считаться и крепостное право.
С другой стороны, в моду стремительно вошел «патернализм», термин с неким убаюкивающе-умиротворяющим эффектом – на мой взгляд, за счет странного привкуса защищенности. Он стал второй универсальной «отмычкой» к русской истории и отныне не фигурировал, кажется, только в кулинарных рецептах.
Идея патернализма, неизбежного как климат (прошу прощения за тавтологию), должна был смягчать наше восприятие негативных сторон крепостничества.
Конечно, отчасти это было компенсацией одностороннего подхода советской историографии, которая рассматривала проблемы крепостного права преимущественно в аспекте насилия, не слишком углубляясь в многогранный характер этого явления.
Но, как это часто бывает (и не только у нас), немедленно начался перекос в другую сторону, и крепостничество постепенно стало трактоваться в духе адмирала Шишкова. Он, напомню, в 1814 г. в манифесте об окончании войны с Наполеоном написал о «давней» связи между помещиками и крестьянами, основанной «на обоюдной пользе… русским нравам и добродетелям свойственной». Александр I, увидев эти слова, вспыхнул и оттолкнул текст, сказав, что не может подписывать того, что противно его совести, и решительно вычеркнул слова «на обоюдной пользе основанная… связь»>36.
Да, эти отношения с хозяйственной точки зрения часто были взаимовыгодны. Крестьянин пользовался лесом, получал топливо, семена, а иногда и скот, но не стоит забывать, чем вызывалась такая забота. Лошади, в том числе и рабочие, требуют определенного ухода.
Однако чем больше мы акцентируем патриархальные, патерналистские, «патронатные» – теперь это так называется! – отношения между барином и крестьянами, тем дальше в тень уходит суть, основа явления крепостничества – принуждение и насилие.
Такого рода ситуативная смена фокуса внимания – либо Салтычиха и убитый крестьянами за жестокость фельдмаршал Каменский, либо Венецианов с Клодтом, т. е. усадебная культура с патернализмом – весьма характерна для нашей историографии.
Вышесказанное вынуждает меня остановиться по этой проблематике подробнее.
Как понять, что такое крепостное право?
Чем было крепостничество как система?
Как «почувствовать себя среднестатистическим крепостным»?