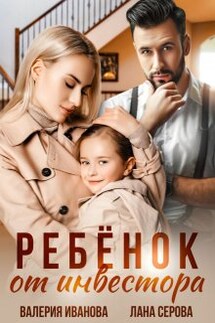Теоретические основы марксизма - страница 13
Конечно, Маркс не хотел сказать, что всякое социальное движение имеет характер классовой борьбы. Тот же «Манифест» доказывает, как далеко был Маркс от этого, ибо авторы «Манифеста» признают ближайшей целью коммунистической партии превращение необъединенной борьбы рабочих в классовую борьбу. Классовая борьба скорее является в глазах Маркса сравнительно редким явлением в истории. Впрочем, взгляд Маркса на этот вопрос остается неясным. Если же желать извлечь из противоречивых замечаний Маркса по этому вопросу логически стройную теорию, то ее можно сформулировать следующим образом. Историческое развитие приводит к классовой борьбе, но отнюдь не исчерпывается таковой. Классовая борьба предшествует всякому политическому и социальному перевороту и заканчивается «революционным преобразованием всего общества или общей гибелью борющихся классов»31. Но так как история не состоит из одних революций, то она не состоит исключительно и из классовой борьбы. Несмотря на это, можно признавать классовую борьбу основным содержанием истории благодаря тому, что классовая борьба является самым важным и решающим в истории общества, и все остальное должно рассматриваться с точки зрения классовой борьбы.
Так, например, хотя рабочее движение первой половины XIX-го века и не было классовой борьбой, оно являлось подготовкой к таковой борьбе: если отдельные столкновения неорганизованных рабочих с отдельными капиталистами лишены классового характера, то все же они являются необходимой и крайне важной частью классовой истории пролетариата, так как они подготовляют будущую социальную революцию. В этом смысле можно сказать, что мировая история есть история классовой борьбы – именно история медленного развития классов, появления классового сознания, ведущего к классовой борьбе и социальной революции.
Только при таком истолковании учение о классовой борьбе может претендовать на научное значение. Вместе с учением о производительных силах оно образует другую составную часть материалистического понимания истории; оба эти учения рассматривались Марксом как нераздельное целое. Так ли это на самом деле – это я постараюсь показать в нижеследующем изложении.
Глава II. Психологические предпосылки материалистического понимания истории
Маркс и Гегель. Воля и разум как движущие силы истории. Волюнтаристическое направление в философии и отношение к нему Маркса. Общие черты в психологических воззрениях просветителей XVIII-го века и Маркса.
Маркс вышел из школы Гегеля и обыкновенно причисляется к левому крылу гегельянцев. И действительно, нельзя отрицать известного влияния философии Гегеля на воззрения Маркса. Но влияние это далеко не так глубоко, так как полагают некоторые критики Маркса. Так, например, нельзя не признать крайним преувеличением утверждение Дюринга, что «вся историческая философия для Маркса покоится на гегелевском отрицании отрицания и должна иметь одинаковую судьбу с диалектикой Гегеля»32. С гораздо большим основанием Маркс утверждал в предисловии ко второму изданию I тома своего «Капитала», что его диалектический метод «по своей сущности не только отличен от метода Гегеля, но представляет прямую противоположность этому последнему методу», и что он лишь «кокетничал» гегелевской манерой выражаться. «Определяя известные события как отрицание отрицания, – говорит Энгельс, – Маркс не думает доказывать этим их историческую необходимость; наоборот, доказавши, что известные события частью произошли, частью должны произойти известным образом, он констатирует, что они совершаются согласно известному диалектическому закону»