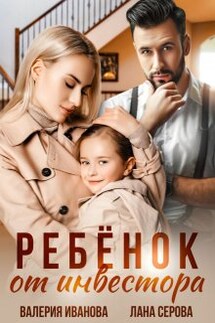Теоретические основы марксизма - страница 23
Другим корнем симпатических чувств, соединяющих в одно целое не только кровных родственников, но и совершенно чуждых людей, является столь же стихийный, как и материнская любовь, общественный инстинкт человека. Как и материнская любовь, этот инстинкт свойственен не только человеку, но и многим животным. Некоторые животные виды живут только группами, между тем как другие не обнаруживают к этому никакой склонности, что опять-таки естественнее всего объясняется условиями борьбы за существование. Крупные хищники, как львы и тигры, не принадлежат к числу общественных животных, и это понятно, так как их добыча рассеяна на большом пространстве: стадо львов или тигров обречено было бы на гибель от голода. Напротив, дикие ослы, быки, антилопы живут большими стадами, обнаруживая при этом чрезвычайную потребность в обществе себе подобных: зависит это от того, что от недостатка пищи стадо травоядных не страдает, а между тем соединение в стадо уменьшает для травоядных опасность нападения хищников, облегчает защиту от них и бегство. Одинокая антилопа неминуемо должна была бы погибнуть, потому в ней так и развит общественный инстинкт62.
Общественный инстинкт слагается, по мнению Грооса, из двух более элементарных: из инстинктивного стремления к приближению к себе подобным и из стремления издавать звуки призыва и предупреждения и отвечать на них63. Эти более простые инстинкты свойственны всем общественным животным, к числу которых принадлежит и человек. Мы не знаем ни одного человеческого племени, которое не жило бы более или менее значительными группами. Сила общественного инстинкта человека доказывается тяжелыми страданиями, которые причиняет человеку принудительное изолирование его от общества себе подобных (например, в одиночном заключении).
Инстинктивная любовь кровных родственников и общественный инстинкт людей представляют собой важнейшую психологическую основу человеческого общества. Симпатические чувства и взаимная любовь, которую Конт назвал в противоположность эгоизму альтруизмом, естественно развиваются между людьми, принадлежащими к одному и тому же обществу. Наличность в человеческой природе альтруистических чувств есть факт безопорный. Вопрос только в том, достигают ли эти чувства в современных людях такого развития, чтобы их можно было признавать крупной социальной силой.
Один современный социолог – Бенджамин Кидд – сделал попытку доказать именно это. По его мнению, общественный прогресс нашего времени выражается в чрезвычайном распространении в широких общественных слоях и, в частности, в господствующих классах интенсивного чувства гуманности и жалости к страданиям другого64. К этому заключению Кидд пришел на основании оригинальных социологических соображений, отправным пунктом которых является положение, что не интеллектуальная одаренность, но моральная сила обеспечивает народу победу в борьбе за существование.
С последним можно согласиться. Но Кидд глубоко заблуждается относительно характера моральных свойств, необходимых народу для победы над соперниками. Пока война не исчезла с мировой арены, до тех пор естественный отбор не может укреплять в людях альтруистические чувства. Жестокость и невосприимчивость к чужим страданиям являются необходимыми свойствами хорошего солдата. Кидд очень высокого мнения о национальном характере англосаксов и видит в последнем главную причину промышленных и политических успехов англичан и американцев. Если это и так, то, конечно, только наше национальное самоослепление внушило английскому социологу мысль, что преимущества англосаксов перед всеми другими заключаются в исключительном развитии у них альтруистических чувств. Не альтруизм, но упорство и энергия в преследовании своих, по большей части, совершенно эгоистических целей, мужество и настойчивость, с какими преодолеваются препятствия, – вот что обеспечило англосаксами победу над соперниками. Что же касается рассуждений Кидда о горячей любви к ближним капиталистов и вообще лиц господствующих классов, то рассуждения эти слишком наивны, чтобы нуждаться в опровержении.