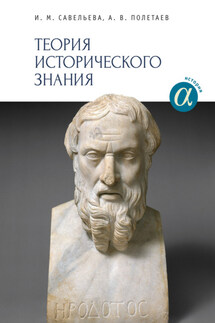Теория исторического знания - страница 22
Конечно, новый поворот в трактовке смысла исторического знания возникает не вдруг со сменой веков. По сути он наметился уже в последней трети XIX в., когда наряду с субстанциальной философией истории в Германии возникает так называемая «критическая философия истории»[12], т. е. философия исторического знания (это направление было представлено в работах Иоганна Дройзена, Вильгельма Дильтея, Генриха Риккерта, Георга Зиммеля). Но окончательно концептуализировано новое понимание истории было лишь в первой половине XX в. Существенный вклад в формирование современных представлений об исторической науке внесли известные историки разных стран: в Германии – Эрнст Бернгейм и Макс Вебер, во Франции – Люсьен Февр и Марк Блок, в США – Чарльз Бирд и Карл Беккер, в Англии – Робин Коллингвуд, в России – Александр Лаппо-Данилевский и Николай Кареев, и многие другие.
Существенно подчеркнуть, что все перечисленные авторы были, прежде всего, профессиональными историками, а не чистыми философами, логиками, культурологами, филологами или представителями каких-то иных дисциплин или типов знания. Ранее определение смысла, вкладываемого в понятие исторического знания, было в основном прерогативой философов, и переход к дисциплинарному самоопределению по сути явился еще одним свидетельством становления истории как самостоятельной области общественно-научного знания.
При всех различиях в подходах уже в первой половине прошлого века было выработано некое общее понимание исторического знания. Напомним лишь некоторые известные высказывания из разряда «канонических» (см. Вставку 2).
Люсьен Февр: «История – наука о человеке, о прошлом человечества»[13].
Раймон Арон: «История в узком смысле слова есть наука о человеческом прошлом»[14].
Робин Коллингвуд: «История – это разновидность исследования или поиска… разновидность того, что мы называем науками, т. е. тех форм мышления, посредством которых мы задаем вопросы и пытаемся ответить на них… Науки отличаются друг от друга тем, что они ищут вещи разного рода. Какие вещи ищет история? Я отвечаю: res gestae – действия людей, совершенные в прошлом»[15].
Итак, в XX в. история в значении знания в основном определяется как: а) научное знание; б) знание о социальном мире; в) знание о прошлом. Первый смысл связан с определением по методу, второй – по предмету, третий – по времени. Однако несмотря на некое общее единство представлений об историческом знании, методологические дискуссии в этой области продолжаются, и весьма активно. Выделим лишь некоторые основные пункты современных дебатов, точнее дискуссионных проблем.
Прежде всего не вполне ясно, является ли история «просто наукой» или научной дисциплиной, как, скажем, социология или филология, или это все же «комплекс наук». Отсюда возникает ощущение, что история – это что-то отличное от других общественных и гуманитарных наук (оставляя в стороне различие между теми и другими), но остается неясным, в чем именно состоит это отличие. Эту неопределенность попытался передать французский философ Мишель Фуко, который, говоря об Истории (он часто пишет это слово с прописной буквы), утверждает:
«… Место ее не среди гуманитарных наук и даже не рядом с ними; можно думать, что она вступает с ними в необычные, неопределенные, неизбежные отношения, более глубокие, нежели отношения соседства в некоем общем пространстве… История образует “среду” гуманитарных наук… Каждой науке о человеке она дает опору, где та устанавливается, закрепляется и держится; она определяет временные и пространственные рамки того места в культуре, где можно оценить значение этих наук; однако вместе с тем она очерчивает их точные пределы»