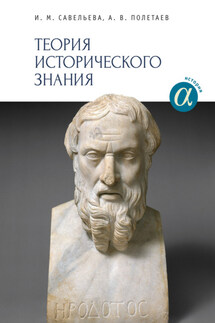Теория исторического знания - страница 26
Как и любая область знания, история продолжает успешно развиваться, обновляться, наконец, «взрослеть», как говорил Марк Блок. В XX в. представления о смысле всех значений слова «история» в очередной раз претерпели существенные изменения. Важную роль здесь сыграло развитие теоретической социологии знания в последней трети минувшего столетия, в данном случае – знания о прошлом.
В рамках этого подхода историю-знание можно определить как общественно-научное знание о прошлой социальной реальности. Отсюда следует, во-первых, что история – это не научная «дисциплина», поскольку дисциплины формируются на основе более узкого определения предмета, а часть общественно-научного знания, специфицированная не по предмету или методу, а «по времени» (общественно-научное знание о прошлом). Это позволяет четче определить место истории в рамках общественно-научного знания, но одновременно требует концептуализации различия между настоящим и прошлым. При этом историю как научное знание о прошлом следует отличать от знания о прошлом социального мира в целом. Последнее имеет многокомпонентный характер и складывается не только из научного, но и из других форм знания – религиозного, философского, идеологического и эстетического (художественного). На уровне личности существенную роль играет также неспециализированное обыденное, житейское знание о прошлом, формируемое индивидами на основе собственного жизненного опыта. Все эти типы знания о прошлом имеют самостоятельное значение, характеристики, функции, механизмы формирования, иными словами – способы и результаты конструирования прошлой социальной реальности.
Важную роль в современной концептуализации истории играет понятие социальной реальности. В отличие от распространенного в последние десятилетия «текстологического» подхода, рассматривающего проблему реальности в рамках анализа текстов, мы используем иную концепцию, связывающую реальность не с текстом, а с знанием. Эта взаимосвязь определяется принципиальной особенностью социальной реальности (социального мира), отличающей ее от двух других «реальностей» – божественной и природной. Последние традиционно предполагаются предсущими, внеположенными по отношению к субъекту, существующими «сами по себе», независимо от человека. Не обсуждая справедливость этой посылки в целом, заметим лишь, что она в любом случае не применима к социальной реальности, поскольку последняя возникает только в процессе социальных действий и взаимодействий.
Именно на этом и основана идея о теснейшей взаимосвязи социальной реальности и знания о ней. Дальнейшее развитие этой идеи приводит к радикальному пересмотру представлений о соотношении реальности и знания, в течение тысячелетий применявшихся к миру природы. Со времен античности считалось, что знание – это лишь отражение реальности. В настоящее время эта точка зрения подвергается сомнению даже применительно к природной реальности, и уж в любом случае она неправомерна по отношению к реальности социальной. Знание о социальной реальности одновременно является формой ее конструирования – новые элементы социальной реальности не могут возникать без появления соответствующих понятий или «знаков», обозначающих эти элементы. Социальная реальность дана нам отнюдь не в ощущениях, а в понятиях или знаках. В свою очередь понятия и знаки возникают только в процессе социального взаимодействия и одновременно являются его основой. И в этом смысле существование социально признанного (и тем самым объективированного) знания о прошлом, в первую очередь научного, является непременным условием социального взаимодействия в настоящем.