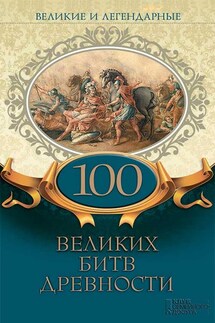Тихая работа вежливых людей - страница 10
На востоке небо прорезалось сначала узким лезвием золотисто-красного цвета, какой бывает только в рассветную пору, затем разрослось в широкую полосу, стремительно теряющую яркость, быстро уступившую торопко выползающему из-за горизонта ярко-желтому диску.
– Яешенка, – протянул Пух и смачно сглотнул. – Ну, точно глазунья. Сейчас бы сковородочку со шкварчащим сальцем, а сверху залить парочкой-троечкой яиц да лучком зелёным присыпать…
Гоша просит не травить душу, слушая свой басовито урчащий живот, понимая, что не то что обед, но даже жиденький чаёк ему в ближайшее время абсолютно не светит. Пух ёрничает и тычет пальцем в Гошин живот, говоря, что теперь знает, где находится его душа. Гоша не успевает ответить: я показываю в сторону дороги и говорю, что в магазинчике можно чайку попить, и они рысцой устремляются в указанном направлении.
Сбившись у «буса», выкурили ещё по сигарете, зябко подергивая плечами от забирающегося за ворот утреннего холодка, перебросились ничего не значащими фразами – так, лишь бы не молчать.
Батюшка со служкой появились из сумерек как-то неожиданно. Были они почти одного роста, но шли по-разному, каждый по-своему: батюшка степенно, неторопко, твёрдо ставя ногу и глядя прямо перед собою, словно не замечая ничего вокруг. Служка семенил следом, приотстав на пару шагов и воткнувшись взглядом в светлеющую в траве тропу.
Поравнявшись с приехавшими, батюшка лишь на мгновение зацепил нас взглядом и кивнул, здороваясь. Он уже привык, что время от времени у храма появляются в рассветных сумерках машины с российскими номерами, доставляя немногословных мужиков, почтительно обнажающих головы при его виде, иногда заходящих в храм, молча ставящих свечи и исчезающих. Навсегда ли, нет ли, он сказать не мог – не запоминал их лиц, а тем более не знакомился. Да и как их всех запомнишь, коли все одеты одинаково в камуфляж и, как минимум, с суточной небритостью на одинаково размытых сумерками лицах. И не спрашивал он никогда, почему они здесь и куда направляются – и так понятно, что туда, за «ленту».
Он и служка прошли к храму, не обращая внимания на собравшихся у ограды, открыли запертые на большой навесной замок тяжелые кованые двери и скрылись за ними.
Курить больше не хотелось – с утра да натощак удовольствие не шибко радостное, до тошноты драло горло и сглатывалась с трудом слюна, потому сначала я, а следом и остальные потянулись в храм – проводника всё не было, и грех было не побыть наедине со своими мыслям. Вот так бывает у нас, православных в крещении: вроде бы и к Богу тянемся, да всё как-то путано, всё тропу ищем, ногой шарим, а нет бы открыть глаза и увидеть, что давно на ней стоим, только шаг сделай.
Тусклый свет едва освещал тёмные лики образов, в углах таился сгусток мрака, под сводом бродили тени и едва слышно потрескивали зажжённые служкой свечи. Кто-то любопытствовал, вглядываясь в лики икон, кто-то крестился, а Седой[21], достав из-за пазухи привезенную с собою свечу, зажёг её и поставил в ряду других, перекрестившись и что-то прошептав.
Наверное, не случайно Господь сподобил нас в этот предрассветный час ещё раз задуматься о бренности, о смысле и необходимости бросить уже устоявшуюся, размеренную жизнь, пусть и не очень сытную, не очень обеспеченную, но гарантированную и в какой-то мере прогнозируемую, и вообще обменять жизнь – жизнь! – на смерть вдали от дома и близких.