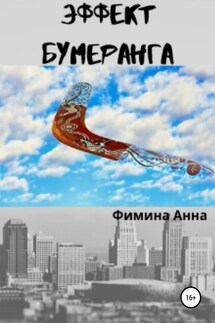Торжествующий дух - страница 40
1911
4.
Домниха, 1912–1913
На закате. К. Р. в 1914–1915 ГОДАХ
1
Вот продолжение событий 3 октября 1914 года: «Приехали в Осташево часа за полтора до прибытия гроба, – пишет К. Р. – Вышли ему навстречу на село. На площади, между часовенкой и памятником Александру Освободителю, служили литию. Гроб отвязали от лафета, осташевские крестьяне подняли его на руки и понесли по липовой аллее, направо на птичий двор, мимо окон Олега в сад и направо вдоль реки. Путь в начале парка, где ведет налево дорожка на холмик, возвышающийся над заливным берегом Рузы, под деревьями расположено «Натусино место». Так мы называли этот холмик, где есть скамейка: 9 лет назад, когда заболела Натуся, мы ждали тут телеграммы с известиями. Вместо крытого берестой круглого стола со скамейкой вырыли глубокую могилу, обделав ее деревянными досками. Здесь осташевский батюшка Малинин с нарочно прибывшими духовником Олега иеромонахом Сергием и павловским диаконом Александром отслужили последнюю литию. Георгиевский крест на подушке из материи георгиевских цветов держал Георгий. Осташевский батюшка перед опусканием гроба в могилу прочел по бумажке слово; оно было не мудрое, но чтение прерывалось такими искренними рыданиями батюшки, что нельзя было слушать без слез. Мы отцепили от крышки гроба защитную фуражку и шашку; кто-то из крестьян попросил поцеловать ее. Опустили гроб в могилу. Все по очереди стали сыпать горсть земли, и все было кончено».
5 октября: «Чудные октябрьские дни. С утра морозит, на траве иней, на реке сало, а днем на солнце тепло. Приехал по нашей просьбе всеми нами любимый инженер Сергей Николаевич Смирнов. Мы хотим, согласно желанию Олега, выстроить над его могилой церквушку во имя преподобных князя Олега и Серафима Саровского. Смирнов охотно за это берется». В тот же день К. Р. пишет Кони: «В тяжкие, горестные дни, последовавшие за 29-м сентября, когда не стало нашего сына Олега, «новопреставленного воина, за веру, Царя, Отечество на поле брани живот свой положившего», моя мысль не раз обращалась к вам в уверенности, что найдет вас плачущим и сочувствующим нашей незаменимой потере… Я не ошибся. По желанию, неоднократно выраженному нашим незабвенным усопшим, мы похоронили его в Осташеве… Господу угодно было взять у меня того из сыновей, который по умственному складу был наиболее мне близок. Да будет Его Господняя воля».
В декабре 1914 года К. Р. совершил свою последнюю инспекционную поездку по городам, – он был в кадетских корпусах Москвы (куда были эвакуированы также корпуса из Варшавы и Полоцка) и Орла. Время от времени появлялись в Петрограде, во время кратких отлучек с фронта, сыновья: Игорь Константинович, штабс-ротмистр лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка (флигель-адъютант), Константин – штабс-капитан лейб-гвардии Измайловского (тоже флигель-адъютант); появлялись и старшие – Иоанн и Гавриил, оба кавалерийские офицеры. К. Р. встречал их с большой нежностью, – все они могли быть убиты на войне, так как постоянно находились под обстрелом и в самых тяжелых переделках. Об Иоанне, штабс-ротмистре лейб-гвардии Конного полка, видевший его на фронте игумен Серафим (Кузнецов) писал, что «он был трогательно чуток и прост к солдатам». Измайловец Князь Константин Константинович, рискуя жизнью, спас полковое знамя, за что и получил Георгиевский крест. Удивлял своей храбростью товарищей Князь Игорь Константинович.