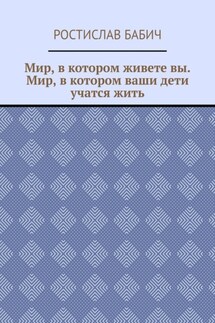Три допроса по теории действия - страница 2
Стругацкие, братья-писатели, в юности играли роль моих гувернеров. Поколенчески так совпало, что Стругацкие усложняли свой образ мира в меру возраста, как бы для меня лично. Я рос и по мере взросления получал очередного «ежа под череп» в новой книжке Стругацких на Рождество. Начал читать их во втором классе с «Багровых туч», и тогда этот простенький космо-экшн был вровень мне. Я подрос, и братья-писатели усложнили задание. «Трудно быть Богом» и «Далекая радуга» в шестом классе стали для меня метафорой хрущевского Sturm und Drang в космосе и на Кубе. «Хищные вещи века» – про потребительский коммуно-капитализм конвергенции – переход к брежневским 60-м, в 9-10 классе.
Мой волюнтаризм обуздывали хард-энды Стругацких. Они писали анти-фэнтэзи по схеме «мечта плюс облом». Но облом-то меня и заводил! Советское воспитание 60-х прятало от нас все острые вещи – конфликт, травму, облом. Стругацкие запитывали меня важным опытом – будущих неудач. Теперь я знал: да, это и мои будущие ошибки. Да, вот мои проблемы, и я хочу их испытать. Оттого братья заканчиваются для меня в 1969 году, когда их ставленник вырос. Загрузив в себя основы сопромата по Стругацким – «Улитку на склоне», «Обитаемый остров», «Гадких лебедей», – я перестаю их читать. Они мне теперь не нужны, дальше – сам.
Недоставало важной вещи, ведь Че Гевара защищал обездоленных буквально – порабощенных, нищих, голодных. А что защищаю я – свободу личности от сытых мещан? Маловато будет! Только в самиздате мне открылось, что и кого я защищаю: Пастернак, Марченко [4], Мандельштам, Белинков [5], Солженицын, Шаламов – великие мужи, великие их книги, похищенные властью. Итак, мы хранители опыта русского ХХ века – высшего опыта человечества.
Самиздат дал мне понятие нормы и ее попрания. «Мы великая держава» – это теперь мне диктует не Политбюро, а Ахматова, Бухарин и Платонов. Мы другие советские – те, кто взял на себя кровь Революции и эту кровь искупает явочным утверждением нормы. Мы аристократия, правящая Союзом крови и нормы. Тут уж все, брат, мобилизация; назад хода нет, дернешься – предашь. Играет пластинка «В лесу прифронтовом» и страх оказаться власовцем или пособником. КГБ для меня – это власовцы и были, им сдаться – табу. Инакомыслящее сообщество тогда еще не называли диссидентами, имя появится к середине 70-х. Мы говорили Движение, Демократическое Движение.
Поражения не боялся, рассчитывая обратить и его в преимущество, в ресурс контратаки.
«Иди навстречу своему поражению, – учил меня, мальчишку, в Одессе ссыльный Борис Черных[6], сибирский писатель и педагог. – Твое имя Глеб, твой святой из проигравших; Бориса с Глебом зарезали, но их поражения – это наша голубая кровь». «Капитал в Марксовом смысле, – говорил мне философ Генрих Батищев[7], – это универсальная культура, опасное, но решающее преимущество, оно с нами!» Цель действия – спасение того высокого, что было проиграно. Коммунизм – ослепительно великая неудача. И неважно, кто победил в прошлом. У нас есть плацдарм – память культуры, отступившая, чтоб ударить сильней. Но где мои окна успеха? У Че Гевары был штурм Санта-Клары