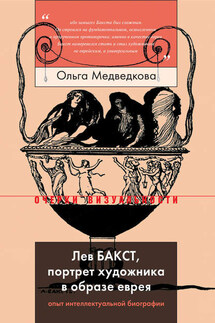Три персонажа в поисках любви и бессмертия - страница 5
Смотреть на Страшный суд она любила, хотя все наизусть уже знала, поди не глупая. Вот над Сыном в вышине открывалось окошко, из него торчала рука. Рука ему двумя своими пальцами до головы дотрагивалась. Тут же была голубка, между рукой и головой. Хохолка у голубки не было, потому как был это спиритус санктус, из руки в голову перетекавший. А из головы тот спиритус во все уже тело сыновнее, до самых его ног струился. А из правой ноги, которой касался святой архангел, спиритус переходил напрямую в тех, кто помещался в раю. Левой же ноги Сына никто не касался, и потому тут слева творилось безобразие. Если думать, как няня, по сходству, то можно было понять и разобраться, почему она давала целовать народу правую, бархатную, а не левую, черную, ногу. Это чтобы весь народ ее был чистый и благий. Чтоб не было среди него разбойников. Только было непонятно, можно ли было так по-няниному думать.
И еще был такой вопрос – откуда тогда втекал спиритус санктус в нее. Это было непонятно. Если смотреть, как няня, по подобию и сходству, то он должен был проистекать от руки сверху, то есть от Патера. Но что няня могла понимать в таких вещах. В таких сложных устройствах и разделах между верхом и низом. Вот Сын на фасаде: одна рука трогала его сверху, а другая одновременно снизу. Он был схвачен меж двух рук. А ее саму, когда народ трогал снизу, то сверху – никто. Там сверху был только балдахин. А над балдахином пустота. А еще если думать по-няниному, по подобию, то тогда ведь и Сын на Мать не походил вовсе. Особенно в размерах. Сын был огромный, а Мать его крохотная, как и прочие святые. Он был гигант, один такой на всем свете. Даже верхняя рука отца казалась рядом с ним совсем маленькой.
Лицо под белилами мокло и чесалось. Водить языком по зубам изнутри надоело и не помогало вовсе. Можно было попробовать снаружи, но это было все-таки опасно. Лицо могло сморщиться, а белила даже и потрескаться. Что бы тогда случилось, там внизу. Что-то ужасное. Если бы она потрескалась и неподвижности своей изменила?
А сама-то она была кто такая? И была ли она такой, как никто другой, ни на кого не похожей, раз и навсегда? Вот попугай был как чибис. Через это – как – были они связаны. Как – было что-то важное. Важно было быть – как. Напротив как, стояло никак. Пустота. Никак было страшное. Попугай был как чибис, но никак не как голубка. А может у нее над головой с масляными волосами, поверх балдахина, была не голубка, а красно-зеленый шутовской попугай. Может в нее спиритус из него втекал. Может существовал такой спиритус, не голубиный, а попугайный. А что? Ведь умел же чибис сальву-реджину наизусть клювом выцокивать.
Как долго еще так сидеть?
Ее сняли наконец с помоста вместе с креслом и понесли на плечах. Ногу с пряжкой можно было задвинуть, но ничто в ней уже не двигалось. Нога не слушалась. Так она ее и оставила, где та была. Качало сильно из стороны в сторону, как всегда в таких случаях. Кричали виват и еще что-то. Может быть, кричали и-и-вон-ону, да она не слушала. Белила клеились по шее. Ее тошнило. Ее чуть не уронили на повороте. Пронесли через площадь, по главной улице, до госпиталя, показали смотревшим в окна больным. Потом до самых городских ворот, за которыми начиналось кладбище. На воротах изображались разные фигуры. Она вскользь посмотрела, не останавливались. Были там звериные морды. Но уже поворачивали. Обратно уже несли.