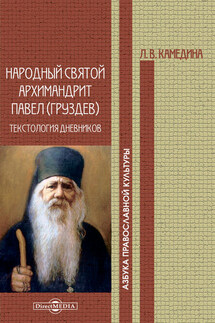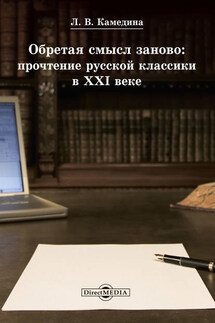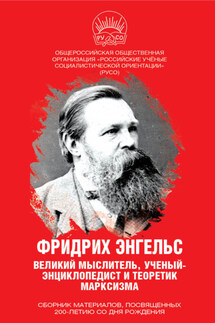Творчество как преодоление зла в духовно-нравственном становлении личности - страница 20
Культура начинает подменять цели средствами, гениальность – техникой исполнения. Гений же, по мнению П. Сорокина, сосредоточен не на технике, а на ценностях, не на денежной зависимости, а на самом процессе творчества. Гений – один, а чувственное искусство стремится к количественному. Сорокин называет это «болезнью колоссальности». Он анализирует американскую ситуацию: «Мы хвалимся тем, что обладаем самым большим количеством школ и колледжей, самым большим числом выпущенных кинокартин и опубликованных книг, самым большим числом музеев, церквей, пьес и т. п. По этой же причине мы гордимся массовым художественным и музыкальным образованием», однако несмотря на такую массовость, «не появились ни Фидий, ни Бетховен, ни Гете, ни Шекспир» (1, 458).
Сорокин «отпел» чувственное искусство еще в 1960-х годах, указав на «признаки возрастающей усталости, стерильности, извращенности и упадка» (1, 462). Он признал, что подобного «разложения» уже невозможно остановить, и предрек рождение нового искусства, возможно, идеационального, которое вернет творчеству его изначальные ценности, выработанные еще гениями древности.
Итак, еще одна диаграмма – как результат прочтения книги П.А. Сорокина о социокультурной динамике:
Диаграмма 3
Постмодернизм создал мир антикультуры. В этом антимире все осмеивается. Жанр пародии, смехопано-рамы, ироничного аншлага заполнили почти все пространство культуры. Роль смеха ритуально обозначена. Он нарушает существующие в жизни связи и значения. Он показывает бессмысленность и нелепость мира. В смехе исчезают причинно-следственные связи, этические условности человеческого поведения. Смех оглупляет. Он возвращает миру его изначальную хаотичность. В смеховом пространстве уравновешиваются президент и пролетарий, родители и дети, учителя и ученики. Перед абсурдом все равны. Смех разрушает мир культуры и предлагает свою, культуру шута, валяющего дурака. Чаще за деньги, но порой и так, по внутренней потребности все обсмеять, потому что в это время шут чувствует себя героем. Он возвышается над миром, творя свою мнимую квазиреальность. Смысл пародирующего смеха в разрушении упорядоченности знаков культуры, в обессмысливании их, в предании им неожиданного значения, в создании неупорядоченности, мира без системы, мира глупостей и абсурда. Пародия всегда стремится достичь полноты в построении нелепого антимира. Это одна из ее целей. Чем больше смеховое пространство, тем больше мира кромешного, недействительного, виртуального.
В таком антимире происходит полное развоплощение истории, действительности и языка. Авторы своим «искусством» не преображают мир, а кодируют его, чтобы окончательно уничтожить в нем следы Божьего творения и Божьего присутствия.
Владимир Соловьев в своей «Краткой повести об антихристе» прозревает эту ситуацию в описании будущего мира с приходом в него сатаны. «Он верил в Бога, но в глубине души невольно и безотчетно предпочитал Ему себя» (7, 740). Философ называет качества грядущего антимира: низкие страсти, приманка властью и безмерное самолюбие. Лживыми приманками блага, истины и красоты «князь мира сего» будет сеять плевелы разврата во все сферы жизни: политику, экономику, науку, религию, культуру, философию. Будет установлено «самое основное равенство, – пишет В. Соловьев, – равенство всеобщей сытости» (7, 747). Постмодернизм использовал из карнавальной культуры концепцию тела. Такое изображение телесной жизни отличается от классического и даже модернистского. Постмодернизм развоплощает тело. Перед нами толстяк, без конца пьющий (пиво, воду, напитки…), жующий (жвачку, чипсы, лапшу…), малоговорящий.