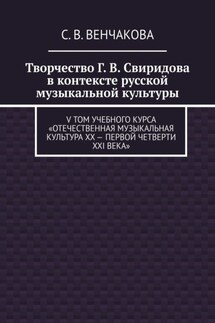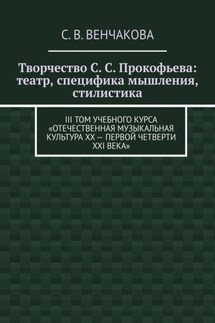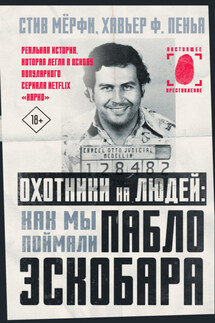Творчество С. С. Прокофьева: театр, специфика мышления, стилистика. III том учебного курса «Отечественная музыкальная культура XX – первой четверти XXI века» - страница 21
На раннем этапе творчества и в рамках среднего периода начался своеобразный стилевой «диалог» Прокофьева с классической традицией, принявший необычайный диапазон. Он включил и обобщающий подход к классической музыкальной традиции, выразившейся в использовании старинных жанров и форм, их изысканной стилизации («Классическая симфония»); это и лирическая интерпретация библейской притчи – своеобразный взгляд сквозь глубину веков (балет «Блудный сын»); возрождение античной темы (симфоническая сюита «Египетские ночи» – знаменитая история Антония и Клеопатры); а также следование традициям русской эпической классики.
Ещё один показательный пример неоклассических традиций в творчестве Прокофьева – многократное использование остинатных приёмов. Остинато (итал. ostinato), как известно, многократное повторение в музыкальной ткани мелодического, ритмического, либо гармонического оборота, в сочетании со свободным развитием в остальных голосах. В структуре целого остинато играет важнейшую формообразующую роль. Остинатные приёмы вошли в музыкальную практику в XIII веке, терминология используется с XVIII века. В полифонической вокальной музыке XV – XVI веков это повторения cantus firmus в мотетах и мессах композиторов нидерландской школы. С XVI века широко используется форма basso ostinato. Один из примеров использования вариаций на soprano ostinato в музыке XX века – разработка первой части Симфонии №7 Д. Шостаковича (1941). Таким образом, в XX веке (как и в романтическом искусстве XIX века) роль остинатных приёмов ещё более возрастает, что определяется осознанием огромных выразительных возможностей этого принципа, таких, как передача особо устойчивых состояний, нагнетение напряжения и др. Так, в опере Прокофьева «Война и мир» следует отметить своеобразие применения приёмов остинато: в VI картине, целиком посвящённой обрисовке образа Наташи; в сцене диалога Наташи с Ахросимовой (после неудавшегося побега с Курагиным), длительное время звучит малый минорный септаккорд от звука «es» на фоне лейтритма. Это сочетание, предельно нагнетая атмосферу сцены, становится дополнительным средством характеристики образов и ситуации. Следует отметить, что ритм у Прокофьева всегда служит средством объединения эпизодов сочинения, т. е. следует говорить об использовании ритмической драматургии в композициях монтажного типа (логика приёмов киноискусства естественно входит в творческий арсенал многих композиторов XX века). В XII картине оперы, в сцене бреда князя Андрея, композитор использует остинатный приём в условиях хоровой фактуры: альтовые, женские голоса многократно произносят слоги, не имеющие смысловой нагрузки – «пи-ти», нагнетая психологическое состояние слушателей. В момент возвращения сознания героя «видение» исчезает. Это необычная драматургическая находка в смысловой ткани сцены; в момент смерти героя опять действует ритмическое начало, «рисуя» прерывистое биение пульса (аналогично решена сцена смерти Меркуцио из балета «Ромео и Джульетта», №34) – создаётся полная зрительная достоверность образов. Так театр Прокофьева становится театром композитора-режиссёра.
Ещё один примечательный момент в эволюции стиля Прокофьева касается оперного творчества: создание ранней оперы «Любовь к трём апельсинам» (зрелищной оперы-пантомимы, пародирующей образно-эмоциональные стереотипы романтической оперы) по сказке Карло Гоцци (1919) по договору с Чикагским оперным театром. Идея была подсказана знаменитым режиссёром В. Мейерхольдом. Известно, что многие элементы искусства Прокофьева носят зрелищный характер, и такие жанры, как опера или балет, отвечали этому всесторонне. Дягилев в те годы подчёркивал, что оперная форма отмирает и нужно развивать балетное искусство. Мейерхольд, всячески пропагандировавший творчество Прокофьева, опровергал это, считая важным овладение опытом