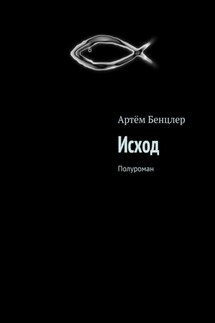У нас в саду жулики (сборник) - страница 19
И сразу же пошла на прием к управляющему – и со мной, как по мановению волшебной палочки, тут же заключили на три года договор, и в бухгалтерии, не отходя от кассы, выписали по полной программе подъемные – 150 рублей (оклад старшего инженера-экономиста). И даже без предъявления билетов еще и оплатили дорогу (хотя после моего возвращения из Москвы прошло уже больше месяца): 75 рублей (стоимость плацкарта) – от Москвы до Хабаровска да плюс 64 (стоимость билета на самолет) – от Хабаровска до Магадана.
А когда деньги закончились, то мы с отчимом подрались. Я повесил на кухне Толину гравюру «Смерть художника». И прямо над плитой (где в чугунке варился украинский борщ и кипятилось в баке белье). А он ее (гравюру) взял и проткнул. И прямо вилкой. И оскорбленная моим поведением теща болела за своего Витязя. А Людка, хотя и болела за меня, велела мне гравюру снять.
И в знак протеста я хлопнул дверью и со «свинцом в груди» взял курс на нимб горящей за занавеской лампы. Но на втором этаже в окне у Ларисы было темно. И тогда я опять вернулся к Зое.
И когда столкнулся в городе с Людкой, то она попросила у меня червонец на аборт: «Все, – говорит, – завтра ложусь». А через день мы с ней опять столкнулись, и Людка (смущенно потупившись) хотела попросить еще один червонец – теперь уже за двойню, но в последний момент все-таки не решилась.
А когда еще только выходили с тюльпанами из ЗАГСа, то нечаянно столкнулись с Ниной Ивановной, и Зоя потом траванулась уксусной эссенцией. Но по пьянке не рассчитала, и Нина Ивановна ее откачала. И когда, еще до нашего знакомства, Нина Ивановна решила повеситься, то Зоя вытащила ее прямо из петли.
А как-то уже зимой вдруг познакомила меня с коренастым таксистом по имени Гена. И мы все трое даже выпивали и слушали Высоцкого. И Гене больше всего понравилось «И тот, кто раньше с нею был».
И эту песню я ему, как и Витеньке, тоже ставил несколько раз. Но, в отличие от Витеньки, Гена вел себя гораздо приличнее и, вместо того чтобы шарахнуть по столу кулаком и смести все со скатерти на пол, «вовсю глядел, как смотрят дети», на Зою.
А когда я ушел в море, он, оказывается, Зою заразил, и Зоя сначала сама ничего не знала. Но потом, когда я уехал в Москву, ее по знакомству вылечили. И она Гене, а заодно и мне, все простила. И теперь этот самый Гена, если меня кто тронет, отвернет моему обидчику гаечным ключом голову.
В 64-м году, приехав на Колыму, я сразу же усомнился в торжестве справедливости и, закручинившись, зафиксировал свои страдания на бумаге:
Случай в ресторане
– А сейчас для нашего гостя из Москвы… – развинченным баритоном привычно объявляет ведущий, и от соседнего столика отделяется молодой человек и с независимым прищуром подрагивает нависающей соплей.
– Идем, – предлагает, – потолкуем.
Для выяснения личностей пришлось воспользоваться туалетом. А там уже двигает папиросой такой симпатичный здоровяк. И тот, что меня привел, как будто принес хозяину мышь.
– Ну, что, – спрашивает, – он?
Тот, что с квадратным рылом, сплевывает окурок и, придавив его башмаком, растирает по кафельной плитке.
– Да вроде бы, – лыбится, – он…
И тот, что меня привел, размахивается и бьет.
Я поднимаю глаза и чешу покрасневшую скулу.