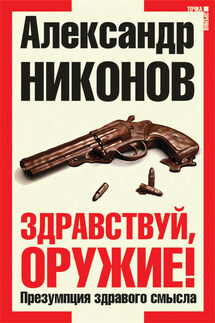У ворот Петрограда (1919–1920) - страница 32
– Советская власть делает большие глупости, она явно перегибает палку своими методами диктатуры пролетариата и террором. Мы, во всяком случае, сделали бы иначе. Но в тот момент, когда Ленин будет устранен из Кремля, Клемансо и Ллойд Джорж нас всех удушат. Мы, следовательно, держимся здесь только благодаря тому, что Ленин сидит в Москве….
А если так рассуждали в Париже и в Лондоне, то в Гельсингфорсе, ввиду его непосредственной географической близости к красному Петербургу, после пережитого белого террора рабочие массы, естественно, еще реальнее ощущали возможность и необходимость «помощи» от Советской России, чтобы удержаться, по крайней мере, на той позиции, которая обеспечивалась за ним новым легальным парламентаризмом. Но отсюда ясно также, что они высказывались и против всяких попыток вовлечь Финляндию в вооруженную борьбу для свержения Советской власти в России.
Единственно достижимым казалось мне тогда обеспечение «нейтралитета» финской социал-демократии на случай, если бы борьба против Советской власти была предпринята исключительно русскими силами с гарантиями подлинной демократичности самого движения и преследуемых им целей.
Впоследствии действительно кое-какие шаги в этом направлении и были предприняты отдельными элементами Ревельского Северо-Западного правительства, в частности ее социал-демократическим членом В. Л. Горном, но, как мы в дальнейшем увидим, надлежащий момент для этого был упущен – «нейтралитет» финской социал-демократической партии был обещан формально тогда, когда Юденич уже отходил от Петрограда.
Глава V
Помощь Финляндии и Эстонии
Итак, весною 1919 года в финляндском общественном мнении намечались три течения в оценке русского вопроса и мер к его решению: одно, националистически-русофобское, обосновываемое так называемой «теорией гнета». Другое – определенно интервенционистское, «активистское», поддерживаемое, как мы видели, влиятельными торгово-промышленными кругами по соображениям чисто экономическим; третье – социалистическое, явно противоинтервенционистское, но которое можно было нейтрализовать упорной демократической работой.
Наличность этих трех течений и предопределяла, казалось, всю совокупность работы русских антибольшевистских организаций в Финляндии. Было ясно, что эта работа должна вестись в трех направлениях; предстояло:
1) ослабить, насколько возможно, русофобство сторонников «теории гнета» путем добровольного, искреннего и безусловного признания независимости Финляндии, что сразу же парализовало бы пропаганду этой группы;
2) поощрять тем же путем деятельность торговопромыш-ленников и демократической интеллигенции и 3) всем содержанием белой работы на обоих берегах залива дать социалистической партии прочные гарантии в том, что вооруженная борьба против Петрограда не преследует никаких реставрационных целей, что возможность установления военной диктатуры со всеми ее красотами на другой же день после взятия Петрограда исключена – словом, что только принципы Февральской революции будут положены в основу строительства новой подлинно демократической республиканской России.
Ни одно из этих условий выполнено не было.
Начать с того, что «душа и мозг» русского белого дела в Финляндии, бывший член Временного правительства А. В. Карташев признавал независимость Финляндии только условно. Мы уже не говорим о Юдениче, который в этом вопросе вообще не разбирался, но все-таки инстинктом старого царского генерала смотрел на независимость как на определенное зло, причиняемое «единой и неделимой». Не говорим мы также и о ближайших его военных сотрудниках: генерале Суворове и Кондыреве (Конзеровском), просто высмеивавших «чухонскую» требовательность. Эти лица, как и вообще весь русский военный элемент в Финляндии, начиная с чина подполковника, относились определенно враждебно к идее независимости маленькой страны, в которой они нашли себе приют. Они не могли да и не хотели найти в своем сердце ноты к сближению с тем самым народом, от которого они ждали помощи в борьбе с большевиками. Обстоятельства, окружающая обстановка заставляли их скрывать свои чувства – и они скрывали. Но когда представлялся случай поносить «чухонцев» и укусить их, скажем, где-нибудь в Лондоне или Париже, они это делали охотно, не отдавая себе отчета в том, насколько это вредит их собственному же делу в Гельсингфорсе, в котором стены имели уши и никто никогда не знал, где начинается разведка. Умы же, которые руководили деятельностью этих элементов, со своей стороны ничего никогда не сделали хотя бы только для смягчения этой «античухонской» психологии.