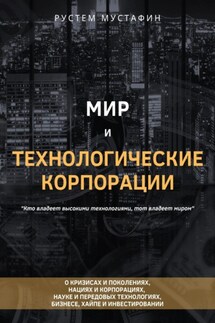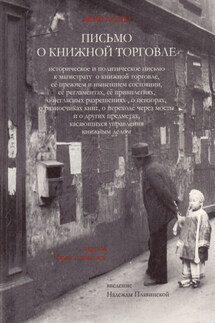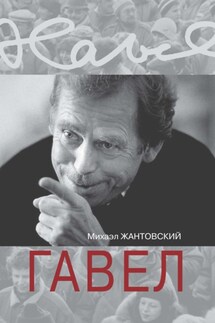Убийцы, мошенники и анархисты. Мемуары начальника сыскной полиции Парижа 1880-х годов - страница 6
Господин Коллас, после долгих размышлений, решился не приступать немедленно к аресту. В контору господина X. был послан инспектор с приказанием просить господина X. явиться в комиссариат по делу, лично его касающемуся. Несчастный, знакомый немножко с господином Колласом, пришел к нам в самом веселом настроении и дружески протянул руку комиссару, но тот принял его с холодной сдержанностью, подобающей случаю, и в двух словах объяснил, какое возмутительное обвинение над ним тяготеет.
– Но это невозможно!.. – бледнея, воскликнул господин X. – Подобное обвинение против меня! Надеюсь, это несерьезно!
– Увы, даже слишком серьезно! – возразил господин Коллас. – Судите сами, вот показания малютки!
Затем господин Коллас прочел подробный рассказ девочки.
– Да, это правда, – сказал несчастный фабрикант, – эта малютка была очень мила и несколько раз, когда приходила в мастерскую встречать отца, я давал ей конфет, но никогда, клянусь вам, никогда она не переступала порога моего дома!
– Между тем, – возразил комиссар, – можете ли вы отрицать, что сделанное ею описание вашей комнаты неверно?
Господин X., бледный как полотно, беспомощно опустил руки и ответил только:
– Да, все это так… Но клянусь вам жизнью моих детей, что я никогда не приводил ее к себе!
Казалось, он был совершенно подавлен уликами, тяготевшими над ним.
Комиссар отпустил его домой, и за ним был установлен строгий негласный надзор, чтобы он не мог бежать.
На следующий день в назначенный час он явился в комиссариат для очной ставки с девочкой. Эта очная ставка была для него фатальной. Девочка тоном непреложной истины повторила все, что сказала в первый раз, не пропустив ни одной детали. Господин X. был так поражен, что ничего не мог возразить.
– Это возмутительно, – наконец прошептал он, – я ни в чем не виновен!
Дело осложнялось еще тем, что сам обвиняемый не помнил, чтобы отец ребенка был когда-нибудь в его квартире. На этот раз господин Коллас уже колебался: можно ли оставить X. на свободе. Ему казалось, что виновность его не подлежит сомнению.
Однако я попросил отложить арест еще на некоторое время.
В кабинете мне пришлось остаться с глазу на глаз с господином X., тем временем как ребенка повели к отцу, которому мы не позволили присутствовать при очной ставке из опасения, что он в порыве вполне законного негодования позволит себе какую-нибудь резкую выходку.
– Я погиб… – сказал мне господин X., в изнеможении опускаясь на стул, – мне остается только застрелиться.
– Значит, вы признаете себя виновным? – быстро спросил я.
– Я? Я не виновен в этом возмутительном преступлении, – воскликнул он, быстро поднимаясь, – клянусь вам всем дорогим, что есть для меня на свете, клянусь вам жизнью моих дочерей, моей жены и старухи-матери, которая умрет от этого удара!
До конца моей полицейской службы я оставался сентиментальным и в душе до сих пор убежден, что эта сентиментальность – лучшая гарантия против профессиональных увлечений. Понятно, что я был поражен тоном глубокой искренности этого человека, а между тем виновность его казалась неоспоримой.
– Если вы не виновны, – сказал я господину X. – то не имеете основания убивать себя. Ваш долг – доказать свою невиновность. Возвращайтесь домой и ждите, пока комиссар снова вызовет вас.
– Этот человек не виноват, – заключил я, оставшись наедине с комиссаром.
– Очень может быть, – ответил господин Коллас, не лишенный здравого чутья правды. – Но как это доказать? Как объяснить обвинение? Мы навели справки об отце ребенка, и они оказались в его пользу. Правда, он очень нуждался и слыл между товарищами за угрюмого и необщительного человека, однако вел умеренный и трезвый образ жизни и никогда не совершил бесчестного поступка.