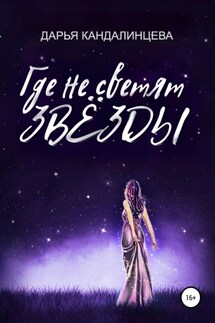Уголовно-правовые и криминологические основы учения о потерпевшем - страница 28
Н. С. Таганцев в своем фундаментальном труде «Русское уголовное право», исследуя различные вопросы Общей части уголовного права, постоянно акцентировал внимание на проблеме потерпевшего от преступления[135]. Анализируя древнее законодательство, исследователь проводит интересную историко-правовую классификацию потерпевших в уголовном праве, выделяя целую группу лиц, которые не пользовались охраной закона. В разделе «Согласие потерпевшего» Н. С. Таганцев выделяет потерпевших от имущественных преступлений, оскорблений, телесных повреждений, рассматривает группу потерпевших, которые дают согласие добровольно, под влиянием обмана и принуждения.
Отдельные вопросы психологического отношения населения к потерпевшему от преступления исследованы в одной из работ В. В. Тенищева. По его мнению, по делам о мошенничестве симпатии населения чаще всего бывают не на стороне потерпевшего, порой крестьянин «признается, что потерпевший сам виноват, что по недосмотру дал себя обмануть»[136].
В литературе по уголовному праву советского периода до начала 60-х гг. ХХ в. вопросы потерпевшего серьезной теоретической разработке не подвергались. Отдельные проблемы этой темы затрагивались специалистами при изучении некоторых вопросов Общей и Особенной частей уголовного права.
В 20-х гг. XX столетия влияние противозаконных действий потерпевшего на степень общественной опасности преступлений, совершенных в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, одним из первых рассмотрел С. В. Познышев. По его мнению, при решении вопроса об уголовной ответственности лица в таком состоянии следует учитывать не только направленность неправомерного поведения против виновного и его близких, но и направленность такого поведения, которое существенно затрагивает интересы других граждан, государства, общества[137].
Интересные суждения, которые повлияли на становление учения о потерпевшем в уголовном праве, содержатся в отдельных работах того времени, посвященных преступлениям против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности и половой свободы личности. В большинстве этих работ затрагивается влияние личности и поведения потерпевшего на юридическую оценку содеянного и назначение наказания.
Так, А. А. Жижиленко, рассматривая преступления против личности, приходил к выводу, что такое обстоятельство, характеризующее поведение потерпевшего как согласие на совершение преступления, не исключает противоправности содеянного[138]. На страницах правовой печати вызывают споры и вопросы квалификации изнасилования женщин, если потерпевшая является женой или сожительницей насильника[139].
Из работ, изданных в предвоенные и послевоенные годы, следует выделить труды А. А. Пионтковского и В. М. Чхиквадзе. Первый исследователь в учебнике по Особенной части уголовного права 1938 г. подробно показывает значение охраны личности потерпевшего уголовно-правовыми методами[140], а второй ученый подчеркивает важность правильного установления в составах преступлений против военной службы признаков, характеризующих потерпевшего и его поведение[141].
М. Д. Шаргородский в монографии «Преступления против жизни и здоровья» (1948) анализирует отдельные признаки потерпевшего, относящиеся к объекту преступного посягательства, и считает невозможным сохранение в уголовном законе некоторых из них, таких, например, как убийство женщины, заведомо для виновного беременной