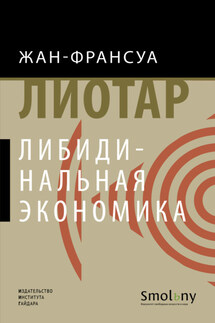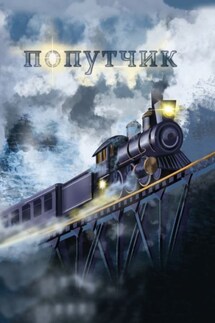В поисках человека. Очерки по истории и методологии экономической науки - страница 17
К истории русской экономической мысли я пришел в обход через историю западной. Наверно, сказалось то, что книг, аналогичных аникинской «Юности науки», про русскую мысль мне не встретилось. Да их, честно говоря, и не было – «ходить бывает склизко по камешкам иным». Даже сам Андрей Владимирович Аникин свою вполне приличную на общем фоне книгу по русской мысли[41] не любил – там было слишком много внутренней и внешней цензуры. Но вот настала эпоха гласности, и многое в этой области поменялось. Леонид Иванович Абалкин – человек, которого, по-моему, уважали экономисты всех направлений, – организовал конференцию под названием «Российская школа политической экономии». В своем вступительном докладе Леонид Иванович говорил именно про национальный стиль экономической науки и видел его в подчеркивании этических факторов, отсутствии индивидуализма и пр. При этом «российская школа» распространялась у него на экономистов всех эпох и теоретических ориентаций, что вызывало возражения. Я выступил на конференции с докладом, в котором поспорил с Леонидом Ивановичем и предложил использовать в разговоре о российской экономической традиции шумпетеровскую дихотомию анализа и мысли[42]. На этой конференции я познакомился с Йоахимом Цвайнертом – интеллигентным и обаятельным молодым немцем из Гамбурга, говорившем на безупречном русском языке. Из нашего разговора выяснилось, что Йоахим был настоящим специалистом по истории русской экономической мысли и работал над книгой, ей посвященной. Эту книгу я предложил перевести на русский и сам это сделал[43]. С тех пор продолжается наша дружба. Я помогал Й. Цвайнерту и Л. Д. Широкораду собрать материалы об Израиле Григорьевиче Блюмине, наиболее глубоком советском историке экономической мысли, пострадавшем за «объективизм» и работавшем последние годы в ИМЭМО. А недавно Цвайнерт написал новую интересную книгу, посвященную перестроечной и постсоветской экономической литературе. Так что к истории русской экономической мысли меня привел немец. Иногда я обращаюсь к ней в сопоставительном контексте, как, например, в статье, сравнивающей методологию классических учебников экономической науки, написанных Маршаллом и Туган-Барановским. Мне кажется, мало что может быть более увлекательным, чем история о путешествиях идей между странами, их переводе (самостоятельная проблема![44]) и восприятии уже в измененном виде в новом пространственно-временном контексте. Более того, оказывается, что в измененном виде они могут оказать обратное влияние в той стране, откуда когда-то пришли. Этому кругу вопросов (судьбе переводов Шумпетера в России и некоторым примерам из области прямых и обратных российско-европейских влияний в области экономической науки) были посвящены мои доклады на конференциях[45], которые пока не воплотились в русскоязычные публикации.
Как известно, «поэт в России больше, чем поэт». Наша литературоцентричная страна породила великих писателей-мыслителей, которых, смотря по обстоятельствам, можно причислить к философам и даже экономистам, притом что специально они соответствующими вопросами не занимались (кроме Чернышевского и, может быть, Гарина-Михайловского). Русская литературная классика всегда меня к себе влекла, передо мной был вдохновляющий пример А. В. Аникина и его книга «Муза и Мамона» об экономических мотивах в творчестве Пушкина. Поэтому когда представился случай что-то сказать и написать о Пушкине и Достоевском, я ухватился за такую возможность. Причем привлекли меня не собственно экономические темы, как Аникина, а противопоставление тайной свободы и политических прав в пушкинском стихотворении «Из Пиндемонти» и антирыночный пафос Достоевского. Естественно, оба этих маленьких текста порождены проблемами постсоветской России. В обоих случаях позиция наших гениев выражена настолько талантливо, что неудержимо тянет с ними согласиться, но приходится спорить.