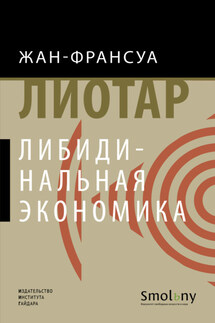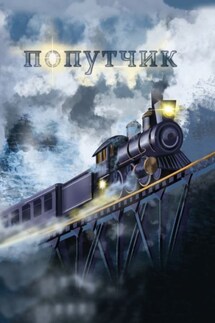В поисках человека. Очерки по истории и методологии экономической науки - страница 29
Дело в том, что в условиях неопределенности для максимизации целевой функции у индивида часто бывает слишком мало информации, и это предоставляет простор воздействию психологических факторов. Подчеркнем в данной связи, что понятие рациональности в психологии относится не к результатам принятых человеком решений, а к самой процедуре их принятия [Саймон, 1993; Simon, 1976]. Поэтому психологическая рациональность в принципе могла бы дополнять экономическую в ситуациях неопределенности, которые в жизни встречаются гораздо чаще, чем случаи, когда хозяйственный субъект располагает полной информацией (при этом, разумеется, критерии психологической и экономической рациональности могут противоречить друг другу). Поэтому психологические переменные – мнения, ожидания, аттитюды – могут играть роль посредствующего звена между изменением ограничений и реакцией на него экономических субъектов[69]. Но современная экономическая теория, основанная на модели экономического человека, стремится свести истинную неопределенность к ситуациям риска, когда индивиду, делающему выбор, известен набор возможных альтернативных исходов и вероятность каждого из них. Только в этом случае можно применить гипотезу максимизации ожидаемой полезности, которая, как уже отмечалось, сильно суживает смысл экономической рациональности. (Опровергающие ее многочисленные аномалии, зафиксированные как экономистами, так и по преимуществу психологами, будут описаны в главе 3.)
За исключением проблемы принятия решений в условиях неопределенности, исследования психологов и некоторых примыкающих к ним экономистов по большей части относятся к той группе проблем, которую экономисты, принадлежащие к основному течению, исключили из своего рассмотрения. Это относится, в частности, и к комплексу вопросов, связанных с предпочтениями: их происхождению, неустойчивости зависимости от контекста, в том числе от ограничений (люди адаптируют свои предпочтения, приспособляя их к изменившимся условиям по принципу «зелен виноград»), влиянию на предпочтения других индивидов и референтных групп [Van Raaij, 1991, р. 805]. Кроме того, психологи способны обогатить представления экономистов об ограничениях, включая ограничения, связанные с процессом переработки информации, и ограничения, накладываемые индивидом на себя самого. Однако очень часто результаты этих исследований противоречат предпосылкам модели экономического человека.
Среди профессиональных экономистов существуют полярные точки зрения по поводу «непсихологичности» модели экономического человека [Frey, Stroebe, 1980].
Одни – представители поведенческого (behavioural) или психологического (psychological) направления в экономической теории[70], а также прикладные экономисты (в основном те, кто занимается исследованиями в области маркетинга [Kroeber-Riel, 1975]) – считают, что недостаточная психологическая достоверность модели экономического человека является ее пороком и для того, чтобы усовершенствовать некоторые разделы экономической теории (прежде всего теорию потребительского поведения, но и многие другие), эту модель следует обогатить некоторыми достижениями психологической науки[71] (разные авторы предлагают для заимствования выводы разных психологических школ[72].
Другие – представители экономического империализма [Alchian, Demsetz, 1972; Becker, 1976; McKenzie, Tullock, 1975] и их методологи К. Бруннер и У. Меклинг – утверждают, что непсихологичность модели экономического человека является большим ее достоинством, поскольку психологический подход к человеческому поведению подразумевает его иррациональность и, следовательно, непредсказуемость