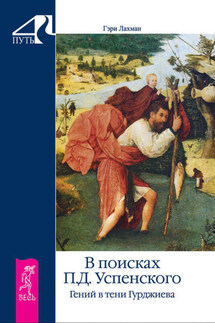В поисках П. Д. Успенского. Гений в тени Гурджиева - страница 3
Петр Демьянович Успенский, последний в своем роду, получил в наследство черты обоих характеров – наследство, которое, возможно, стало основой его парадоксальной личности. Однажды он заметил, что в его крови есть запах таверны, а в поздние годы часто вспоминал во время долгих вечеров за бутылкой о бурных днях в Москве и Петербурге, когда он «всех знал» и собирал свой салон в известном кафе «Бродячая собака». Однако тот же Успенский так и не смог избавиться от ощущения, что жизнь – наша повседневная обыденная жизнь – это ловушка. Быт – этим странным русским словом он описывал ощущение «всепроникающей, неподвижной, рутинной жизни». Именно для того, чтобы бежать от убийственной монотонности быта, он и отправился на поиски чудесного, в загадочное внутреннее и внешнее путешествие, которое привело его к Гурджиеву. В центре работы Гурджиева лежит идея, что все ценное приобретается в ходе борьбы с самим собой, внутреннего противостояния «да» и «нет». Если так, то судьба хорошо потрудилась еще до того, как Успенский задумался о своих исканиях. Петр и Демьян в нем располагали к вечному «да» и «нет». Если в конце и выиграл Демьян, сражение было нелегким, и победа далась непросто. Под грозной внешностью сурового учителя все еще жил теплый, дружелюбный и поэтичный Петр, и, расслабляясь в приятной компании, он временами давал о себе знать, порой весьма неожиданно.
Источник такого сочетания противоположностей – основную формулу алхимического Великого Делания – можно найти в родителях Успенского. Его мать была художницей, хорошо знала русскую и французскую литературу. Вероятно, именно под ее влиянием юный Петр уже в шесть лет прочел такие книги, как «Герой нашего времени» Лермонтова и «Записки охотника» Тургенева. Позднее он рассказывал своим самым близким ученикам, что Лермонтов был его любимым поэтом. Отец Успенского, чиновник землемерной службы, тоже был художником. Кроме того, он очень любил музыку – черта, которая его сыну, очевидно, не передалась. Однако другой его интерес стал центральным символом дела жизни сына. Отец Успенского был хорошим математиком-любителем, и особым его увлечением было четвертое измерение – тема, которая вызывала интерес у многих математиков, профессионалов и любителей в конце XIX века. Хотя Успенский позднее писал о высшей математике и перенял непоколебимые манеры требовательного наставника, он никогда не был профессиональным математиком, несмотря на описания, которые до сих пор появляются на обложках его книг. На самом деле он даже не получил университетского образования – его отчислили. Однако он перенял интерес отца к таинственному четвертому измерению, которое стало для него своего рода метафизической волшебной сумой, в которую и из которой появлялось все, что отрицал безотрадный, педантичный и крайне ограниченный позитивизм его юности, – то есть все «чудесное». Именно это сочетание художественного и научного, поэта и математика, придало ранним работам Успенского особый вкус и привлекательность.
Петр Демьянович Успенский родился в Москве 5 марта 1878 года. Позднее он рассказывал своим ученикам, что самые ранние его воспоминания – о доме бабушки по материнской линии на улице Пименовская, и вспоминал истории старой Москвы, которые она рассказывала ему и его сестре. Неудивительно, что человека, у которого память о себе стала предметом пожизненной одержимости, так сильно интересовали воспоминания, точное воспроизведение прошлого. Подобно своему современнику, французскому романисту Марселю Прусту, который был старше его всего на семь лет, Успенский обладал поразительной способностью воссоздавать прошлое, воспроизводить «другое место и время», пользуясь точной фразой Колина Уилсона. Он утверждал, что помнил себя в раннем возрасте и мог точно воспроизвести события, происходившие, когда ему было меньше двух лет. К трем годам он запоминал события и обстановку с пронзительной живостью. Он рассказывал о путешествии вниз по реке Москве – лодки, скользящие по воде, запах дегтя, холмы, поросшие густыми лесами, старый монастырь. Особенно хорошо ему запомнились выставка 1882 года и коронация Александра III год спустя, с фейерверками и празднованиями. Много лет спустя Успенский расскажет своему самому важному ученику, Морису Николлу, что не разделял интересов других детей, что обычные игры и игрушки его не привлекали. «В очень раннем возрасте, – скажет он, – я видел жизнь такой, какая она есть». Успенский считал, что причина этого в том, что в детстве он еще помнил свою прошлую жизнь, прошлое появление на колесе возрождения. Николл, который рос куда более нормальным ребенком, был «молодой душой», все для него еще было свежо, и потому он этого не помнил. Успенский считал, что уже много раз рождался в этом мире. «Изучение возрождения нужно начинать с изучения детских разумов, особенно до того, как дети начинают говорить, – говорил он ученикам. – Если бы они могли вспомнить то время, то могли бы вспомнить очень интересные вещи»