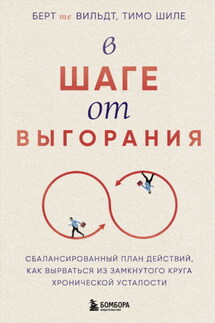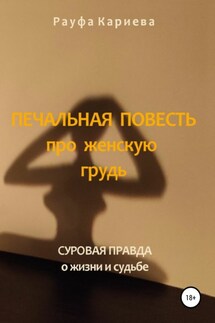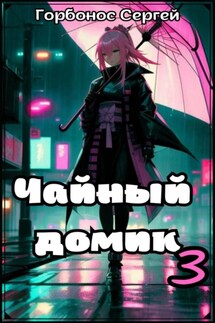В шаге от выгорания. Сбалансированный план действий, как вырваться из замкнутого круга хронической усталости - страница 2
Чтобы отграничить горение от картин других заболеваний, важно внимательно рассмотреть историю диагностики и ответить на вопрос, как классифицировались подобные заболевания и их симптомы ранее. Это позволит нам добраться до сути довольно длинной истории, корни которой уходят гораздо глубже, в те времена, когда выгорание еще не было открыто. Так, горение могло скрываться и ранее в картинах других психосоматических заболеваний. Говоря это, мы имеем в виду заболевания, при которых люди испытывают глубокое истощение, не объясняемые однозначно профессиональной или иной перегрузкой. Например, неврастения, переводимая с латыни как «раздражительная слабость», может трактоваться как первая предшественница выгорания и горения.
Неврастения – мать синдрома хронической усталости
Добрых 150 лет назад американский врач Джордж Миллер Берд впервые описал неврастению как болезнь цивилизации [2]. Разнообразие физических и психических симптомов делает неврастению предшественницей психосоматических заболеваний в целом и синдромов истощения в частности. В то время это называлось нервным заболеванием, тем более что психические заболевания как таковые еще не были обнаружены и признаны. Помимо генетических факторов, Берд считал, что причины неврастении кроются в условиях труда и жизни, возникших в ходе промышленной революции. Особенно динамично индустриализация протекала именно в США, из-за чего даже появилось понятие «американская нервозность» [3]. Возможно, описание Бердом неврастении даже знаменует собой фактическое рождение психиатрии и психосоматики, которые мы, европейцы, любим ассоциировать с другим именем – Зигмунда Фрейда.
Фрейд изначально перенял понятие и концепцию неврастении, хотя в скором времени подверг ее критике за отсутствие дифференциальной диагностики [4]. Однако с интересом Фрейда к этому феномену неврастения в Вене и других крупных европейских городах превратилась в спорный модный диагноз высшего образованного слоя общества, который сегодня можно сравнить с так называемой повышенной чувствительностью [5]. Правда, Фрейда в этом контексте интересовали не столько формы перенапряжения, вызванные изменением технологических и социальных условий жизни, сколько внутренние конфликты, которые под влиянием внешних стимулов приводили к чрезмерной чувствительности.
Несмотря на то что существование клинической картины неврастении сегодня является более спорным, чем когда-либо, в системах классификации заболевания можно найти два разных варианта. Одну форму отчетливо характеризует повышенная утомляемость из-за когнитивной нагрузки или напряжения. Эта форма означает нагрузку, связанную с такими функциями человека, как восприятие, обучение, запоминание, мышление и познание. Это среди прочего может означать, что у пациентов с этим расстройством нарушена концентрация, и они замечают, что очень легко отвлекаются. Другая форма неврастении чаще выражается в физических симптомах. В этом случае психосоматическая симптоматика включает в себя в основном физическую слабость и истощение даже после небольшой нагрузки, а также боли в мышцах, головокружение и неспособность расслабиться. Обе формы часто сопровождаются страхом перед дальнейшим ухудшением состояния, которое в большинстве случаев наступает как самоисполняющееся пророчество. Сопутствующее психическое и физическое напряжение усугубляет психосоматические симптомы – так возникает порочный круг. Оба варианта, психическая и психосоматическая формы, рассматриваются – как и почти все определения психических расстройств ВОЗ – исключительно с точки зрения симптомов: мы узнаем их по клинической картине и жалобам пациентов, тогда как причины, или, как мы называем их в ходе исследований, этиологические условия возникновения [6], во внимание не принимаются.