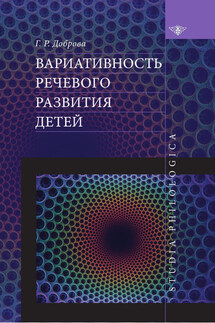Вариативность речевого развития детей - страница 24
) и четырехсловная (Красивый цветочек взят Машей). Таким образом, у 12-и референциальных и у 12-и экспрессивных детей было по 24 попытки воспроизвести пассивные конструкции. Дети находились в возрасте (в среднем около 4,5 лет), когда обычно пассивные конструкции в спонтанной речи появляются еще только у наиболее «продвинутых» детей. Результаты получились следующими. У референциальных детей было зафиксировано 9 верных воспроизведений, и это были дети, которые уже овладели или начали овладевать пассивными конструкциями в спонтанной речи. 2 верных воспроизведения было зафиксировано и у экспрессивных детей, причем в спонтанной речи этих детей мы не обнаружили признаков появления пассивных конструкций. Данные результаты в основном подтверждают то, что речь детей референциальных развивается раньше, чем речь детей экспрессивных, однако также и демонстрирует то, что референциальные дети верно воспризводят пассивные конструкции лишь тогда, когда начинают овладевать ими в спонтанной речи. Что же касается различий у референциальных/экспрессивных детей, то они в основном касались количества и качества повторов с нарушением синтаксических связей. Так, у референциальных детей было зафиксировано 4 воспроизведения с нарушением синтаксических связей (например, Красивый цветочек взял Машей), а у экспрессивных – 10 (например, Картошка почищена мама, Почище мамой картошку). Помимо того, что таких ответов у экспрессивных детей было существенно больше (напомним, что количество референциальных и экспрессивных детей в эксперименте было одинаковым), бросалось в глаза и качественное различие неверных ответов: референциальные дети, даже если и не могли воспроизвести пассивную конструкцию целиком, воспроизводили ее ближе к тексту, чем экспрессивные, верно использовали форму творительного падежа существительного, и только форма страдательного причастия оказывалась для них еще недоступной, почему и заменялась другой глагольной формой. Экспрессивные же дети (кроме двух случаев верного воспроизведения) вообще произносили нечто бессмысленное (Почище мамой картошку – где глагол получает некую странную форму), либо (как ни странно) оказывались способны воспроизвести форму страдательного причастия, которое в своей спонтанной речи они еще не используют, но существительное при этом уже в нужную форму тв. пад. не ставили. Поэтому мы считаем, что этот эксперимент тоже частично подтверждает гипотезу о неспособности референциальных детей, в отличие от экспрессивных, имитировать синтаксические конструкции, которых еще нет в их спонтанной речи, однако оцениваем это подтверждание как неполное, неабсолютное: референциальные дети, действительно, не смогли воспроизвести пассивные конструкции, если не овладели ими в спонтанной речи, однако и экспрессивные дети тоже не продемонстрировали безусловную способность/склонность к такому вопроизведению, поскольку в большинстве случаев, когда пытались такие конструкции воспроизвести, воспроизводили их верно лишь частично. Впрочем, возможно, применительно к русскому языку более правильно учитывать не количество верных воспроизведений синтаксических конструкций, а количество верных воспроизвдений самих глагольных форм с пассивным залоговым значением (почищена и даже такие «недоговоренные до конца» странные формы типа почище)?
Кстати, возникает естественный вопрос: почему же в «классической» американской науке по детской речи столько лет никак не опровергалась аксиома, согласно которой несклонность имитировать не существующие в спонтанной речи конструкции относится ко всем детям? Вывод, очевидно, напрашивается: по всей видимости, в зону внимания исследователей попадали в основном референциальные дети. Почему это так и (главное) какие из этого следуют выводы – еще одна важная проблема (см. об этом далее).
Похожие книги
Электронная версия данного издания является собственностью издательства, В настоящий момент о детской речи в онтолингвистике (науке о об освоении ребенком языка) уже многое известно, однако подавляющее большинство исследований посвящено общим, универсальным свойствам и ее распространение без согласия издательства запрещается. этого процесса. В данной же монографии речь идет о его вариативности, т. е. о тех свойствах детской речи, которые, с одной
Главным предметом внимания авторов монографии «Музыка и мода XX века: от субкультуры к массовости» являются закономерности специфики развития музыки и молодежной моды в контексте основных тенденций искусства и культуры XX века. Феномен массового искусства XX века во многом в своем развитии опирался на локальные художественные тенденции субкультурных молодежных движений на протяжении всего столетия. Именно субкультурный костюм и музыка на протяжен
Монография посвящена одному из самых притягательных, однако трудных в описании феноменов – смыслу. Впервые раскрываются особенности его развития в антропогенезе, осмысляется значение в картине мира мировых религий, описывается связь с видами мышления, изучается роль в жизненном пути человека. Обсуждаются психологические характеристики, способствующие выявлению смысла: спонтанность, сердечность, непредубежденность, безоценочность, умение любить. В
Монография посвящена недостаточно изученному феномену крестьянских народных выступлений в Енисейской губернии в период Гражданской войны. Введенные авторами в научный оборот ранее не опубликованные документы о событиях, произошедших осенью 1920 г. в с. Сереж Ачинского уезда Енисейской губернии, позволяют спустя почти сто лет по-иному взглянуть на произошедшие трагические события. Особый интерес представляют документы из архива Управления ФСБ Росс
Настоящее исследование посвящено рассмотрению темы футбола в советской художественной прозе. В нём впервые проанализирована эволюция мотивов и персонажей, позволяющая увидеть, какие имена так или иначе оказываются связаны с игрой в мяч, какие писатели формируют парадигму «футбольной» художественной прозы. Книга предназначена как для специалистов-филологов, так и для широкого круга читателей.
Действие происходит в начале двухтысячных. Практикующий психолог Майя Лебедева знакомится с начинающим детективом Алексом Январевым, который ведет наблюдение за одной из ее клиенток. Детектив считает девушку виновной в смерти ее сестры. Майя оказывается вовлеченной в расследование запутанного преступления, в ходе которого поневоле сближается с Алексом. Личные взаимоотношения героев переплетаются с профессиональной деятельностью обоих, что приводи
Это о нем. О том, о ком современники говорили: все злое и порочное в его душе проросло наружу, заглушив доброе и человечное, а зависти и злобы в нем было не меньше, чем гордыни и свирепости. О человеке, который сам чувствовал помраченность своего ума и не раз помышлял удалиться от дел, чтобы очистить мозг. Это о Калигуле.Расцвет империи и один из самых ярких периодов в истории Вечного города. Патриции и чернь. Роскошь и рабство. Безудержная празд