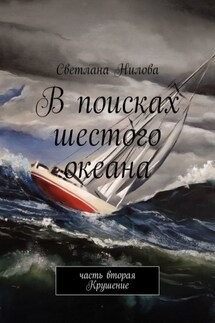Варшава и женщина - страница 31
Затем надлежит вспомянуть сеньора Гуго Лузиньяна, который был постарше Джауфре Рюделя лет на семь, но тем не менее охотно принимал участие в различных забавах, достойных его возраста, нрава и положения. Сеньор Гуго был вспыльчив, отчего зачастую казался моложе своих лет, заносчив, хвастлив и смешлив; все эти качества часто делали его истинным душою тогдашнего общества.
Однако в сонме этих изысканных господ имелась также некая белая ворона, бывшая исключением из всех и всяческих правил, какие только возможно измыслить.
Точнее было бы сказать не «ворона», а «ворон», и не «белая», а «черная», ибо происхождением, мастью и манерою держать себя был этот человек чрезвычайно темен, а бесспорным в нем являлись всего две вещи: во-первых, был он хорошим рифмоплетом и очень недурно пел, а во-вторых, он был гасконцем со всеми вытекающими из этого обстоятельства неутешительными последствиями.
Звали его различно, например, Дармоедом, Горлодером, Лоботрясом и даже Лизоблюдом, и все эти прозвища, каждое со своей стороны, правдиво отображали действительность. Ибо, в полном соответствии с тем, что только что говорилось о его темном происхождении, рожден он был неизвестной гасконкой и, едва ли имея месяц от роду, оставлен в корзине, подброшенной на порог одного богатого дома. И хоть был младенец окрещен, как подобает, имя его тотчас затерялось, и иначе, чем Дармоедом, поначалу его и не кликали.
Впору бы умилиться богобоязненным людям, которые взвалили на себя обузу – заботиться о незаконнорожденном мальчишке, однако в нашем повествовании подобным чувствам явно не место, ибо с самого раннего детства подкидыш изведал немалое количество попреков, тычков, затрещин и прочих воспитательных мер. Оплакивать подобную участь также было бы неосмотрительно, поскольку юный гасконец отвечал своим благодетелям мелкими кражами, ядовитыми дерзостями и ловкими побегами с места преступления.
Получив такое достохвальное воспитание, Дармоед покинул приютивший его дом и отправился в странствия по свету в обществе одного жонглера, который и сманил юношу рассказами о превосходной, сытой и свободной жизни певцов и поэтов. С того-то времени безвестный гасконец и взял себе новое имя – Маркабрюн.
Поначалу он только горланил при дворах мелких сеньоров чужие песни, которым выучился за время странствий; затем начал слагать свои собственные и явил немалый поэтический дар. Однако даже в поэзии оставался он малоприятным человеком, ибо то и дело злым языком честил неверных женщин, предающихся разврату от скуки, мужчин, не умеющих верить в Бога и чуждых добру, сеньоров, замеченных в скупости или недобрых делах, жадных и лживых клириков – словом, доставалось решительно всем, и в конце концов все так ополчились на этого Маркабрюна, что тот подался в наемники и несколько лет не было о нем ни слуху ни духу. Однако незадолго до смерти графа Вульгрина он вновь объявился в тех краях, злее, чем прежде, и направился прямехонько в Блаю, где был принят молодым Рюделем как жонглер и трубадур и по возможности обласкан.
С этим-то Маркабрюном и сдружился Джауфре Рюдель, очарованный его стихами и грубостью.
Маркабрюн был загорелым до такой черноты, что впору спутать с сарацином; острый крючковатый нос так и искал кого клюнуть; небольшие темные глазки глядели насмешливо и мутно. Волосы он нарочно не стриг и уверял, что в тех сражениях, в которых довелось ему явить геройство, не надевал шлема, ибо изверился в людях и жаждал смерти.