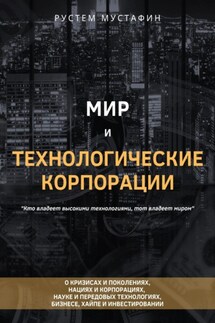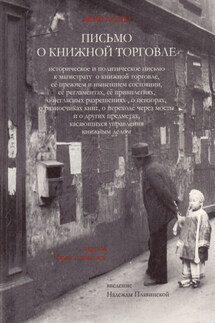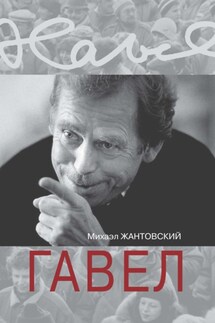Варшавский лонг-плей - страница 2
Эту открытку мать привезла мне назад. Отца уже не было в живых. Надпись на ней была лаконичной, но ведь дело было в удовольствии, в самом факте, что из Варшавы. Она гласила: «Дорогой отец! Я в Варшаве, цел и здоров. Это чудестный город. Сын».
Знал же я орфографию, совершенно не понимаю, какое затмение ума или злой дух заставили меня написать это несчастное «чудестный» – наверное, то был подсознательный сигнал, что с чудесностью Варшавы что-то не так. А когда открытка вернулась, я узнал, до какой огромной степени она не доставила удовольствия отцу. Прочитав, он швырнул ее на письменный стол. Он не предполагал, – как он выразился, – что я не знаком с польским правописанием. Он был очень расстроен. Неважно, что карточка из Варшавы, что от меня: «т» затмило собой все. Первое и последнее мое письмо отцу.
Я написал открытку. Расспрашивая прохожих, добрался до почты на площади Варецкого, купил марку, опустил в ящик ложь о Варшаве, с чувством полной бессмысленности происходящего. Ведь мой Владивосток сейчас дальше, чем луна. Едва перевалило за полдень, а там уже ночь. Родители поужинали и готовятся ко сну. Над Золотым Рогом17 горят майские звезды, а на рейде топовые огни пароходов. В широкие открытые окна моего дома вплывает океанская ночь.
Стало быть, первый наш с ним диалог был про сон и про клопов.
Я продвигался с дорожки на дорожку, все ближе к центру, от центра все ближе к концу пластинки с финальным стаккато и басом-профундо. Он неусыпно следил за вращением моего варшавского времени, меняя место постоя и лавочки: потом я видел его на углу Братской и Иерусалимских аллей, у входа в «Кристалл»18, а через несколько лет – перед торговым домом «Братья Яблковские»19. Менялись мои шляпы: то хорошие, то плохие, то дорогие, то дешевые. Какое-то время братнякская конфедератка, потом снова шляпы. Чешская шляпа из Моравской Остравы, голландская шляпа, шляпа, купленная в Риге за день до планируемого занятия Ковно Рыдзем20. Мы со Станиславом Роттертом21 должны были стать первыми польскими журналистами в Ковно (приехав со стороны Риги), по этому случаю я купил себе прекрасную плисовую. Я взрослел и менял шляпы. Хранитель моего времени ветшал и седел все в той же выцветшей фуражке. При каждой встрече мы обменивались несколькими фразами без слов.
В бытность его перед вокзалом Варшава-Главная22 я часто путешествовал. В Польше, как оказалось, было что посмотреть. Одной из первых была поездка в гдыньскую глушь, на безнадежные дюны, к серому пустынному морю. Трудный, долгий и замысловатый путь, в обход Гданьска23, и только за тем, чтобы узнать: ни польского флота, ни каких бы то ни было польских судов нет в помине. Мы поздоровались, когда с чемоданом в руке я поднимался по ступеням вокзального подъезда. Диалог звучал: «Счастливого пути. Далеко ли, шановны пан?» «В Гдыню, вербоваться на судно!» Мы поприветствовали друг друга после моего возвращения, он ждал на прежнем месте, на лавочке. Диалог: «Ну и что, шановны пан?» «Фига с маслом».
Иногда он возникал то тут, то там спустя полгода или год. Пожалуй, чаще всего мы встречались, когда тот поджидал клиентов перед «Удзяловой»24 на углу Иерусалимских и Нового Свята. Ему случалось видеть меня в обществе разных женщин. Он, очевидно, это запомнил, и диалоги звучали тогда примерно так: «А пан шановны теперь с женой, или как?» В ответ: «Еще нет, мне не к спеху». Он понимающе улыбался. Однажды мы столкнулись с ним на лестничной клетке одного дома на Крулевской. Я поднимался на четвертый этаж и увидел его выходящим из дверей, к которым как раз направлялся. Я нес завернутые в бумагу розы. Он глянул на меня, загадочно улыбнулся и сверх обычного покачал головой. Как он учуял, что я направляюсь именно к тем дверям? Потом я воссоздал диалог на той лестнице. «Зря вы так себя утруждаете,