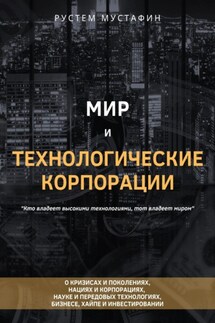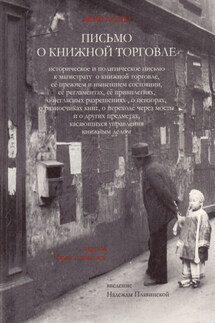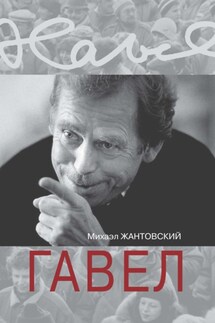Варшавский лонг-плей - страница 7
Сознание, тогда еще смутное, но вскоре подтвердившееся окончательно и бесповоротно: круг замкнулся. С этим полусознанием, размышляя, скорее всего, о том, что нужно заскочить домой, взять необходимое, а потом уже в редакции ждать сигнала к отправлению на вокзал (наверное, мы соберемся вместе, Ясь Велёвейский, Боровы, Чижевский, вместе пойдем, так будет удобнее); размышляя, скорее всего, об этих делах, я смотрел сквозь стекло едва ползущего «восемнадцатого». Наверняка где-нибудь в подполусознании я отмечал то, мимо чего проезжаю:
Книжный магазин «Игнис», Краковское, семь. У этой витрины я когда-то разговаривал с подвыпившим Лехонем37. Его, длинного, худого, стеклянно и недвижно всматривавшегося из-за очков в мой нос, досадно качало. Этот разговор, а точнее, полуразговор – я говорил толково, а он нес околесицу – бросил в моих глазах тень на всю его поэзию (и тень эта осталась до сих пор).
Университет. Целая эпоха, сколько раз и со сколькими я заходил в эти ворота, выходил из них. О воротах – в другой раз. Два самых важных факта про них: первый мой шажок в польской литературе, первая награда за первую написанную по-польски ерундовую новеллочку на конкурс Кружка полонистов. Второе: здесь я познакомился с Константы Ильдефонсом Галчинским38… Здесь ставила свои первые шаги наша дружба, которая в день его смерти была уже очень взрослой, ей было больше тридцати лет.
Дворец Сташица39. Первая квартира (одна огромная комната) моего дяди, профессора математики Антония Пшеборского, где он поселился после переезда из Харькова. В этой комнате как-то утром, когда я на минутку забежал к тетке Пшеборской, вдруг что-то дрогнуло в воздухе и бухнуло в подвале. В ту же секунду посыпались все стекла в окнах (окна были большие, штуки три или четыре). Тетка пережила шок. Это был взрыв в Цитадели. 1928 год40.
Кафе «Кресы» на углу Варецкой. Большой зал, за ним поменьше, летом столики в палисаднике с калиткой на Варецкую, от которого сегодня осталось одно развесистое дерево. Целая эпоха, но о ней будет отдельно. «Кресы» – наше «квадриговское»41 продолжение университета. Если бы это прекрасное, еще живое дерево умело говорить и записало бы на магнитофонную ленту свои воспоминания тех лет – 1924, 1925, 1926… Если бы! «Кресы» были последней страницей истории польской литературно-художественной богемы. «Малая Земянская»42 и Институт пропаганды исскусства43 по сравнению с ними – это уже не богема, а ее глухой отголосок. По пути от Свентокшиской до Иерусалимских тут и там сказочные домики, бары и кафешки, какие сейчас никому и не снились. Во всех этих «Кокосах», «Асториях» и «Марсах» гость был поистину гостем, еда настоящей едой, водка не дешевой «водярой», а водкой. Один из памятных вечеров в «Кокосе»: водка с Каролем Шимановским44 и Збышеком Униловским45. А потом мы со Збышеком провожали Шимановского до дома, в котором он жил, рядом с угловым на Варецкой. Мы долго стояли в подворотне и беседовали, а потом поворачивали обратно в «Кокос» на рюмочку, выпивавшуюся стоя у буфета. Снова провожали Шимановского, стояли в подворотне и возвращались в «Кокос», потому что разговор никак не кончался. Мы выпивали по рюмашке, провожали Шимановского… Ко всему, что я к нему питал, добавилось еще что-то очень личное: он так же, как я, прихрамывал на левую ногу. Первая встреча с Тувимом46: он вошел в «Кресы» по обыкновению стремительно, осмотрелся, присел к нашему столику (состав за столиком мог быть, например, такой: Станислав Рышард Добровольский, Святополк Карпинский, Люциан Шенвальд, Людомир Роговский, Александр Малишевский, Константы Ильдефонс Галчинский, Влодзимеж Слободник). Глаза у него, как всегда, сильно блестели, но может, в этот раз сильнее: он только что кончил читать «Победу» Конрада (в ту пору книжную новинку). Прекрасная, прекрасная книга. Глаза его горели… Прекрасная, прекрасная вещь. Сколько ни возвращаюсь в своей памяти к Тувиму – всегда эти горящие глаза. Первое впечатление – горящие глаза.