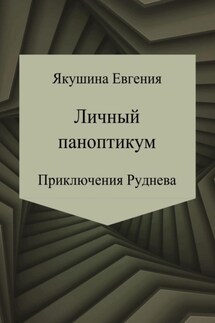Вдыхая тень зверя - страница 13
– Есть ещё вариант, – продолжил рассуждать Руднев, – они могут искать кого-то по старым связям. Кого-то конкретного, кто, по их мнению, должен быть известен в криминальных кругах или числиться в вашем архиве.
– Повторю свой вопрос, зачем это нужно комиссарам?
– Не знаю, Анатолий Витальевич! Мало ли!
– А раз немало, что гадать! – интерес Терентьева к теме с каждой секундой заметно угасал. – Право, господа! Наплевать! Я так точно умываю руки!
Бывший помощник начальника Московской сыскной полиции снова появился на Пречистенке через три дня. На этот раз он был собран и аккуратен, даже как-то чрезмерно, как человек пытающийся убедить себя, что принятое им непростое решение является для него бесповоротным, и что никакое внутреннее волнение, никакие сомнения не властны над ним, но в глубине души опасающийся дать слабину, после которой у него уже не хватит ни сил, ни решимости что-либо предпринять.
Руднев и Белецкий всё поняли. Они не хотели усложнять неизбежный тягостный разговор и наполнять его излишнем драматизмом, поэтому поддерживали беседу о простых и обыденных вопросах, давая возможность Анатолию Витальевичу собраться с духом. Тот долго молчал, сосредоточено глядя на лежавшего у его ног пса – огромного немецкого дога, чёрного с белой манишкой, отзывавшегося на претенциозное имя «Нерон». Собака тоже не сводила с хозяина умных и грустных, как у всей собачей братии, глаз, иногда лишь отвлекаясь на прочих людей и выражая своё к ним внимание едва заметным движением навострённых ушей и ленивыми ударами мощного, как извозчичий кнут, хвоста.
– Завтра, – наконец тихо, но отчётливо произнес бывший коллежский советник. – Поезд в десять утра.
– Вы едете по своему паспорту? – спросил Руднев, изо всех сил стараясь, чтобы голос его звучал буднично.
– Нет. Выеду из Москвы по чужому, в Курске ещё раз сменю личину, а в Киев уже въеду самим собой… Я хотел просить вас, господа, чтобы вы не ходили меня провожать. Не стоит рисковать с легендой… Да и… Незачем всё это!
– Хорошо, – скупо кивнул Дмитрий Николаевич. – У вас есть деньги?
– На первое время хватит.
– А дальше?
– А дальше я не загадываю.
Дмитрий Николаевич, ничего не говоря, поднялся и ушёл к себе в мастерскую. Вернулся он оттуда с небольшим бумажным тубусом.
– Возьмите это, – сказал он, передавая Анатолию Витальевичу футляр.
Тот покрутил тубус в руке.
– Это что? Ваша картина?
– Да.
– Дмитрий Николаевич, голубчик! Ваши работы стоят половину моего годового жалования!
– Какое там жалование?! Нет его у вас, Анатолий Витальевич! – отмахнулся Руднев. – И работы мои сейчас ничего не стоят, по крайней мере здесь, в России. А в Париже, глядишь, вы сможете благодаря ей какое-то время продержаться на плаву. Вы ведь не возьмёте от меня ни денег, ни камней. Берите, прошу вас! Не отказывайтесь! Тем паче, что это особая работа. Она не в моём стиле, но…
Анатолий Витальевич открыл футляр, вынул из него скатанный холст и разложил на столе.
Работа и впрямь оказалась написанной в несвойственной Рудневу манере.
На полотне был изображён купающийся в золотых лучах вечернего солнца Пречистенский бульвар, пенный от бушующей сирени и трепещущий зелёными бликами молодой листвы. На фоне этого сияния виделись полупрозрачные, словно дым затухающего костра, фигуры прохожих, еда намеченные, но всё же живые, наполненные движением, стремлением, чувством. Среди всех этих фантомных абрисов в самом центре композиции резко выделялись три мужских силуэта и силуэт большой собаки, прорисованные глубоким чёрным цветом, настолько контрастно, что казалось, в этом месте полотно было прорвано, и сквозь образовавшуюся брешь проступала тьма непостижимой запредельной бездны.