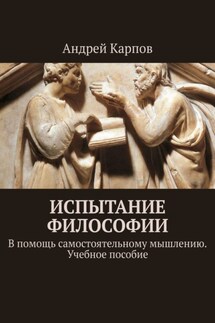Веганство. Обнажение смыслов - страница 3
Узнав об этой неприятной изнанке животноводства, чуткие и романтические натуры испытывают эмоциональный шок и становятся веганами. Они решают не принимать участия в причинении страданий животным, пусть даже весьма опосредованно – в качестве потребителей продукции животного происхождения. Последовательные веганы отказываются и от мёда, и от изделий из шёлка, включая насекомых в число тех существ, которых следует избавить от эксплуатации человеком.
3. Освобождение или дедоместикация
Итак, эксплуатация животных недопустима. Как, в принципе, недопустима всякая эксплуатация.
Идея бороться с эксплуатацией животных возникла не сама по себе, она – лишь результат расширенного применения идеи о неприемлемости эксплуатации человека человеком. Прежде чем появилась возможность говорить об эксплуатации в отношении животных, необходимо было составить само понятие эксплуатации. Это понятие было сформулировано социальной наукой и стало одним из ключевых элементов левой идеологии.2 В этой перспективе защита прав животных оказывается своеобразным навершием мощной волны социальной борьбы. Патетика веганских высказываний в значительной степени восходит к традициям левых движений, привычно употребляющих такие обороты как борьба за права или освобождение. Эти формулировки активно заимствуются веганством. Так, заметная в истории веганства книга австралийского философа Питера Сингера (Peter Singer) называется «Освобождение животных» (Animal Liberation).
Пока речь идёт об освобождении людей всё кажется понятным. Вот человек сидел в тюрьме или, – как принято говорить о тех, кому сочувствуют, – в застенках, его выпустили, и он стал свободен. Или раб, находившийся в полной зависимости от своего господина, получает свободу, – теперь он принадлежит самому себе и волен жить, как ему заблагорассудится. Или крестьянин освобождается от крепостной зависимости, и больше не обязан работать на помещика бесплатно.
Но даже с человеческим освобождением не всегда всё так просто. В русском канцелярите – языке официальных документов – есть такой устоявшийся оборот: «освободить от занимаемой должности». С одной стороны, это действительно освобождение. Человек был отягощён необходимостью определённым образом трудиться. Возможно, ему было нужно приходить в конкретное место к определённому часу, совершать действия в соответствии с производственной необходимостью, а вовсе не со своими желаниями, выслушивать и принимать к исполнению распоряжения начальства. Можно допустить, что человек устал от подобного состояния, и вот его освобождают, и он чувствует эту свободу: теперь он предоставлен самому себе. Но, с другой стороны, весьма вероятно, что потерянная должность была основным или даже единственным источником его доходов, и теперь, хотя и получив свободу, он лишился средств для дальнейшего существования. Является ли подобное освобождение благом?
Ценность свободы вовсе не является абсолютной. «Человек свободен от обязательств» – звучит, вроде бы, хорошо. Но это означает, что никто от него ничего не ждёт, и такой человек, в сущности, никому не нужен, а это уже плохо. Чего стоит обретённая свобода, может сказать лишь тот, кто её получил. Если освобождённый – человек, мы можем его об этом спросить. Но с животными так не получится. Животные не обладают самосознанием и не могут дать оценку изменению своего состояния. Они не в состоянии поведать, что для них исконная или новообретённая свобода – дар или проклятие. Мы вынуждены оценивать ситуацию за них, перенося на животный мир чисто человеческие представления.