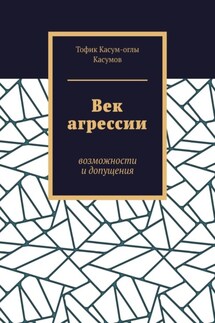Век агрессии. Возможности и допущения - страница 3
Пращур, древний предок человека, имел необходимое для существования и развития, в том числе и агрессию как инстинкт выживания. И всякий раз борясь с опасностями, имело ли это место при нападении или защите, агрессия могла во имя непосредственно самой жизни, неосознанно (реактивно) задействовать все силы. В такой неизменности агрессия представала на ранних этапах эволюции. Но по мере нарастания цивилизационных изменений, расширения сознания человека, развития чувств и мыслей, усложнения коллективных форм жизни, агрессия могла активизироваться и усложняться, принимая блуждающий характер. Вот тогда – то при наличии возрастающих интересов и желаний, агрессия стала целенаправленнее окрашивать чувства, пробуждать мысли и придавать действиям разрушительный характер. В таком раскладе инстинкт агрессии мог ослабевать, а сама агрессия выступать уже по большей части как социализированная сила, согласующееся с волей. Агрессия, «вместе с человеком» перемещается из мира, где господствовал хаотичный случай и действовали иррациональные силы в социальный мир, ядром которого является рациональный выбор. Так агрессия, будучи природной составляющей человека, устойчиво предстаёт в социальном мире уже действенной частью зла, наделённой свойствами и чертами личностного порядка.
Здесь социальное в противоположность до социальному, природному, определяет качественно новый уровень в отношениях, когда совместная жизнь людей задаётся набором институтов, культурных норм и ценностей, необходимых для сохранения её как целостности. Можно сказать, что в отношении к человеку социальное как целостность выступает материей, которая «окутывает» людей и задаёт им свойства, востребованные обществом. Человек с необходимостью овладевает этими свойствами, чтобы соответствовать общественной жизни. Однако выбор целей и достижительных путей – принадлежат уже человеческой субъективности. Встречающиеся трудности и сложности в пути, их преодоление, могут порождать импульсы агрессивности личностного порядка.
Субъективная агрессивность, обусловлена социальностью, она есть продукт совместной жизни людей, их взаимодействий, в которых утверждается Я человека, достигаются цели, удовлетворяются желания. Эти процессы протекают многопланово и в противостояниях. Они становятся далеко не безоблачными, когда возникают агрессивные чувства и мысли, ведущие к агрессивным действиям. Как единица агрессивности, личностная агрессия, в отличие от военной (множественной агрессивности), которая осуществляется одним государством в отношении другого государства, имеет место быть в обществе. Такая агрессивность, как правило, бывает характерна для индивидов, но её могут выражать также лидеры группы, состоящие из нескольких человек.
На этом метаморфозы субъективной агрессивности, выражающие сущность агрессии социального порядка, конечно же, не заканчиваются. В дальнейшем о таких метаморфозах мы станем уже обстоятельно говорить в контекстах самой по себе агрессии и как таковой, рассматривая по большей части предпосылки и механизмы зарождения века агрессии.
Однако вопрос в том, можно ли будет с имеющимся багажом знаний и общих представлений, почерпнутых из истории развития агрессии, отправляться в новый путь, связанный с изучением века агрессии? Полагаем, что да, но при условии упорядочения этих знаний на определённый лад и дополнения «багажа» новыми представлениями. Мы нисколько не оспариваем справедливость названных детерминант агрессии и видим в них устойчивые представления и смыслы. Что касается понимания связности и метаморфоз агрессии, то пусть это будет неким ориентиром на нашем пути. Вместе с тем согласимся, что проблематика века агрессии потребует иных подходов, связанных с выявлением механизмов, которые обусловили переход агрессии в новые изменённые состояния, характеризующие собою целый век. Как к этому подступиться, с чего начать, а главное, как определить характерное в становлении века агрессии?