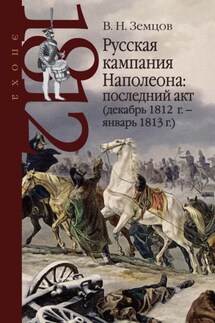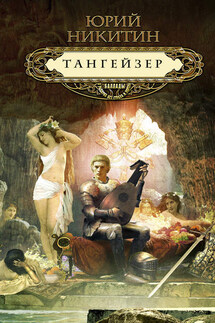Великая армия Наполеона в Бородинском сражении - страница 56
В начале 30-х гг. XIX в. интерес к войне 1812 г. и Бородину приобрел иной оттенок. Польское восстание, осложненное внешнеполитическими последствиями западноевропейских революций, призывы Франции к вмешательству в «польские дела» всколыхнули память о 1812 г.[335] В 1831 г. публикуются «Краткие записки…» о 1812 г. престарелого А. С. Шишкова, написанные им незадолго до польских событий[336]. Бородино он объявил знаменательной победой русских сил. «Французы отступили, оставя нас на месте сражения» и потеряв «еще более» военачальников убитыми и ранеными, чем русские. Причина же последующего отхода русских, по его мнению, заключалась в том, что неприятельская армия, состоявшая «почти из всех европейских народов», по численности изначально значительно превосходила русские силы.
Под влиянием «польских событий» начала 1830-х гг. создаются многие литературные и поэтические сочинения о 1812 г. (упомянем хотя бы пушкинскую «Бородинскую годовщину») и выходят, правда немногочисленные, исторические работы[337]. Но обострившаяся память о Бородине оказалась тогда, в 30-е гг., не только результатом международных потрясений и «польских» дел. В условиях николаевского режима война 1812 г. рисовалась молодому поколению «эпической порой русской истории» (А. Г. Тартаковский). К тому же, в условиях зарождения славянофильства и западничества 1812 год все чаще воспринимался как пора великого столкновения Запада и Востока, пробудившая русское сознание. В этих условиях правительство предприняло энергичные усилия, чтобы монополизировать тему 1812 г.
В 1837 г. переиздается работа Бутурлина. Но теперь она уже не устраивала правительственные круги, которым нужен был дивный и всеохватывающий миф о великих потрясениях, явивших патриархально-самодержавную особость России. Для создания этого мифа был использован 25-летний юбилей войны, призванный канонизировать официально-патриархальную память о 1812 г. Центром юбилейных торжеств, конечно же, стали празднества на Бородинском поле. Собранные там 120 тыс. войск 29 августа 1839 г. разыграли «подобие Бородинского сражения». Спектакль был замечателен двумя обстоятельствами. Во-первых, тем, что в нем не было «неприятеля»: русские войска изображали только самих себя, распугивая, как говорили очевидцы, только местных зайцев. Во-вторых, Николай I, наблюдавший за действом с того самого холма, где был Наполеон во время боя, не довольствуясь «обороной» русских, неожиданно для всех приказал «перейти в общее наступление». Все оставленные ранее укрепления, и даже село Бородино, были вновь взяты русскими. Государь лично повел кавалерию, изображавшую конницу Уварова и Платова, в тылы «неприятелю», отрезая ему путь отступления![338] После окончания торжеств войска с Бородинского поля двинулись в Москву для участия в церемонии закладки храма Христа Спасителя. На самом поле был водружен на Курганной высоте монумент, полумифические надписи на котором должны были закрепить «новую память» о Бородинском сражении.
В 1839 г. был издан целый ряд исторических работ о Бородинском сражении, среди которых особенно примечательны были две работы – Н. Д. Неелова и Михайловского-Данилевского. Работа Неелова[339] была написана специально к торжествам по случаю открытия памятника на Бородинском поле. Хотя автор и использовал французские материалы – работы Фэна, Жомини и Сегюра, но исключительно для того, чтобы подтвердить явное превосходство русских войск. Вполне в «патриотическом» духе Неелов писал о том, как во время сражения «русские подвинулись в порядке на несколько шагов», но поля не уступили.