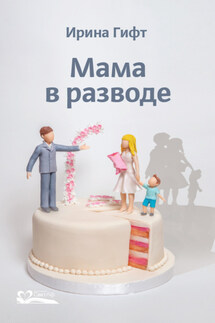Великая эвольвента - страница 38
что предполагает качества, коих не было из-за малого к тому тяготения. Словом, проводя «свободные набеги», грабежи и пленение мирных жителей из других селений, воинственные племена тем самым расписывались в малой способности к историческому существованию.
Что касается Империи, то, как целостность, она есть нечто большее, нежели «удачная» сумма (национальных) частей. Последние, как то видится в идеале, должны нести в себе некие культурно-исторические совпадения с сложившимся укладом Империи и известное психологическое сродство с «имперским» народом. То есть – и прежде всего – феномен Империи предполагает во входящих в неё народах определённые качества и склонность к типу цивилизованности, который характерен для основной её части. Лишь при согласном и согласованном единении частей создаётся язык культурного и делового общения, параллельно с чем возникает необходимость развития соучастных взаимосвязей, которые, вливаясь в общий организм Страны, становятся или в перспективе могут стать её органической частью.
Эта концепция не была реализована в России ни в начале XIX в., ни в середине его, ни впоследствии. Хотя в начале ХХ столетия русский правовед и этнограф А. Башмаков подсказывал:
«С тех пор, как выросли и созрели прочные государственные идеалы России, основанные на началах национальной политики, совершенно ясно, что мы не можем желать увеличения таких частей империи, в которых преобладали бы элементы, не подчиняющиеся ассимиляции».
«Настоящая Европа», имея большой опыт ведения колониальной дипломатии, довольно быстро оценила тогдашнюю и потенциальную уязвимость России. В сложившихся обстоятельствах отдельные племена Кавказа использовались Западом в качестве некой «дипломатической кочерги», с помощью которой удобнее было ворошить племена и тейпы, раздувая угли их ненависти к России. В частности, Англия, издревле имея виды на Кавказ, воспользовалась ситуацией и принялась активно «раскидывать» по Кавказу племенные антирусские настроения, провоцируя войны на (теперь уже номинальных) территорях России. Следуя своим интересам, англичане по своему обыкновению не были разборчивы в средствах.28 Своего рода гарантом цивилизационной и исторической неперспективности для России регионов Средней Азии являлся «тысячелетний» режим военно-феодальной деспотии, основанный на принудительном (без оплаты) труде, отсутствии социального выбора и личных свобод. Всё это, формируя и закрепляя в веках племенное сознание, – ввергало в нищеское существование многочисленные слои местного населения: илятов (кочевников), «таджиков» (оседлых), райятов (не имевших своего надела), юродскую бедноту, и прочие примыкающие к ним племена. Положение дел усугубляла общая нетерпимость к иным верованиям. Подобная тлеющим углям, она легко возжигала фанатизм, спресованный социальным бесправием. Песчаные холмы и курганы, в которые за многие столетия обратились города и храмы осевшего кочевья, наполнились тем безмолвием, которое отличает подающуюся ветрам «песчаную цивилизацию» от всякой другой.
Вернёмся к более ранним событиям, после чего подведём итоги политической жизни XVIII и части XIX в.
Применительно к исторической жизни России, «связь времён» была нарушена рискованным для неё формальным копированием социально-культурных парадигм Запада и, уж конечно, – их профанацией на местах. Калька с западного мира не могла не воспроизвести его издержки. В их числе оказалась нигилизм и «язва лихоимства», прочно угнездившиеся в правительственных учреждениях России. Для борьбы с «язвой» и дабы оградить просителей «от насилия и лихоимства» чиновников, императрица Екатерина II в 1763 г. издала Манифест,