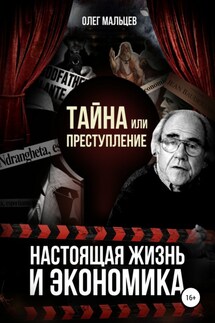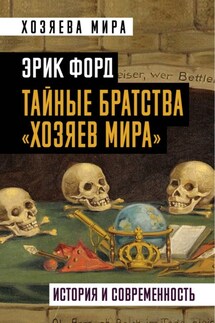Великая революция идей. Возрождение свободных рынков после Великой депрессии - страница 5
В результате идеологического отступления в период Великой депрессии и в годы Второй мировой войны все представления, казавшиеся общими для всей этой группы, были подвергнуты переосмыслению. Финансовый кризис и последовавшая политическая нестабильность сохранили этих людей в общем убеждении, что необходима социальная философия, способная подняться выше абстрактных предписаний laissez faire. Они были едины в том, что, если ставить задачу спасения капитализма от тех губительных воздействий, которые постоянно разъедали его основания, ключевые принципы капитализма следует пересмотреть. Но их мнения резко и неизменно расходились, когда вставал вопрос, какие элементы капиталистического порядка священны, а какие можно изменить, какие моральные правила можно счесть абсолютными и какими средствами обеспечить их соблюдение в качестве таковых. Послевоенный консервативный интеллектуальный мир со всеми пунктами его имплицитного единодушия и междоусобных пререканий возникал из этой атмосферы неопределенности. Перечисленные проблемы были поставлены космополитичными интеллектуалами со всего Атлантического мира, которые сообща и искренне искали философские основы их социального порядка. Это обстоятельство не согласуется с распространенным мнением, что консервативный проект изначально был чисто локальным по происхождению и стратегическим по замыслу. Он был продуктом не консолидированного, а распавшегося мировоззрения.
Состояние неопределенности, характерное для продвижения прорыночных взглядов в 1930—1940-х годах, проявлялось в неспособности (и отчасти ею усугублялось) достичь согласия по поводу понятийного аппарата, который многие считали двусмысленным или устаревшим. «Такие понятия, как “либерализм” и “демократия”, “капитализм” и “социализм”, в наши дни не могут обозначать никакую связную систему идей», – отмечал Хайек вскоре после окончания Второй мировой войны. Он видел в них «конгломераты совершенно разнородных принципов и фактов», которые были привязаны к определенным терминам в силу «исторической случайности»[38]. Используя эти ярлыки сегодня, мы постоянно впадаем в анахронизм. Как будет показано ниже, в период между войнами и в первые послевоенные годы термин «неолиберализм» имел (в тех редких случаях, когда применялся) значение, сильно отличавшееся от того, какое имеет в наше время[39]. Термин «либертарианец»/«либертарианский» не был знаком большинству членов Общества Мон-Пелерен и использовался очень редко. Члены общества почти единодушно отвергали термин «консерватизм», поскольку в их глазах он обозначал сохранение того самого статус-кво, которое они хотели изменить. «Традиционализму» и «неоконсерватизму» как политическим терминам только предстояло появиться в пока еще непредставимом будущем. Отдельные попытки реабилитировать термин «вигизм» были скомпрометированы его архаическими коннотациями. А значение термина «либеральный», который в иных обстоятельствах мог бы стать фаворитом, было непоправимо изменено его растущим отождествлением с мировоззрением прогрессистов[40]. Конечно, в некоторых случаях можно использовать эти термины, не искажая их современных значений: большинство первых членов Общества Мон-Пелерен были убеждены, что переосмысливают принципы либерализма, дабы предохранить его от дальнейшего упадка, а в послевоенных США экономисты – сторонники свободного рынка стали активными игроками в мире консервативной литературы, в среде консервативных разработчиков социально-экономической политики и активистских (